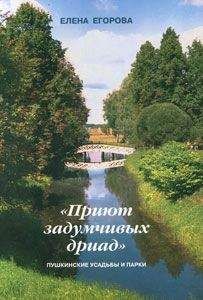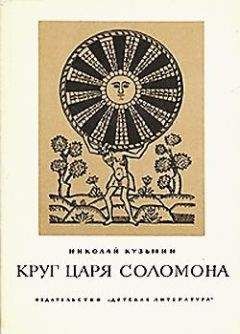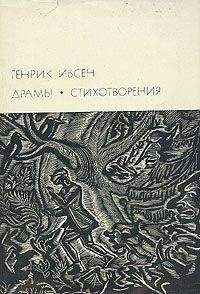Дмитрий Благой - Творческий путь Пушкина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Творческий путь Пушкина"
Описание и краткое содержание "Творческий путь Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Как ни велика пушкиниана, но до сих пор у нас нет законченного монографического труда, освещающего творческий путь Пушкина на всем его протяжении.
Один из крупнейших наших пушкинистов член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой большую часть своей жизни посвятил разработке этой темы. Его фундаментальное исследование «Творческий путь Пушкина (1813–1826)», вышедшее в свет в 1950 году, заслуженно получило высокую оценку критики и было удостоено Государственной премии.
Настоящий труд, продолжающий сделанное и вместе с тем имеющий вполне самостоятельное значение, охватывает 1826–1830 годы в творчестве Пушкина, годы создания замечательных лирических шедевров, «Арапа Петра Великого», поэм «Полтава» и «Тазит», «Сказки о попе и о работнике его Балде», маленьких трагедий. Обстоятельно анализируя все эти произведения, автор щедро делится богатством своих наблюдений, часто по-новому освещая то или иное создание Пушкина.
Книга Д. Д. Благого заполняет существенный пробел в нашем литературоведении. Яркое и живое изложение делает ее доступной самым широким кругам читателей.
По своему политическому значению поступок жен декабристов не может, понятно, равняться с действиями их мужей. Но он являл собой образец высокого морального подвига. Больше того, как личности, как характеры те же Волконская и Трубецкая оказались даже более твердыми, стойкими, чем их мужья. Вспомним, что «диктатор» Трубецкой смалодушничал в самый ответственный момент, в день восстания; далеко не всегда во время следствия проявлял твердость духа и Волконский. «Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории», — писал под впечатлением встречи тогда же в Москве с Волконской и Муравьевой П. А. Вяземский.[102] Мы теперь знаем, что это дало немало «прекрасных строк» и нашей литературе. Не говоря уже о знаменитой поэме Некрасова «Русские женщины» (сперва он даже прямо назвал ее «Декабристки»), подвиг жен декабристов явился толчком к появлению сначала в творчестве Пушкина, а затем на страницах многих классических русских романов сильного, смелого, решительного, отличающегося высокой моральной чистотой женского характера, — образа, повторявшегося в нашей литературе XIX века столь же настойчиво, как и параллельный ему в известной мере образ «лишнего человека».
В Москве M. H. Волконская на короткое время остановилась у хозяйки прославленного литературно-артистического салона, всесторонне одаренной Зинаиды Волконской (жены брата С. Г. Волконского). Зная, как Мария Николаевна любит музыку, и желая хоть чем-нибудь порадовать ее на прощание, Зинаида Волконская устроила 26 декабря музыкальный вечер с участием итальянских певцов. Присутствовал на нем и Пушкин. «…Во время добровольного изгнания в Сибирь жен декабристов, — свидетельствует в своих записках Волконская, — он был полон искреннего восторга (d'enthousiasme réel); он хотел мне поручить свое «Послание к узникам», для передачи сосланным, но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александре Муравьевой». «Пушкин, — вспоминает далее Волконская, — мне говорил: „Я намерен написать книгу о Пугачеве. Я поеду на место, перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках“» (24, 26). С Муравьевой Пушкин действительно переслал и свое уже известное нам послание И. И. Пущину и послание к узникам — стихотворение «Во глубине сибирских руд».
Можно с уверенностью сказать, что отъезд жен декабристов в Сибирь не только дал Пушкину возможность доставить свои стихи по адресу. Несомненно, что именно в атмосфере того подлинного и огромного энтузиазма, который вызвал в нем подвиг жен декабристов, сложилось и само послание к сибирским узникам, если и не полностью написанное (очень возможно и это), то, во всяком случае, завершенное под непосредственным впечатлением прощальной встречи с М. H. Волконской. И когда Пушкин писал в своем послании о «любви и дружестве», которые «дойдут сквозь мрачные затворы», он явно имел в виду появление подле мужей их жен-подруг. Вместе с ними он приводил в «мрачное подземелье» и свою музу — свою звонкую и широкую песню.
Поначалу послание декабристам непосредственно связано с «Прощальной песнью воспитанников Царскосельского Лицея», написанной Дельвигом для торжественного акта по случаю окончания в 1817 году Лицея первым его выпуском. Опубликованная тогда же в «Сыне отечества» и положенная на музыку лицейским учителем В. Теппером де Фергюсоном, она приобрела чрезвычайную популярность среди лицеистов, неизменно в течение двадцати лет исполняясь при всех последующих лицейских выпусках. Естественно, что особенно и навсегда запомнили ее лицеисты первого — пушкинского — выпуска, как навсегда запомнил ее и сам Пушкин. Одно место из песни — призыв хранить «в несчастье гордое терпенье» — поэт и повторяет во второй строке послания: «Храните гордое терпенье». Это прямо показывает, что, начиная его, поэт снова находился в атмосфере лицейских воспоминаний, обращался мыслью прежде всего к бывшим лицейским друзьям-братьям — к тому же Пущину, к Кюхельбекеру, с которыми, говоря его же собственными словами (в вариантах «19 октября», 1825), хотел «потолковать на языке Лицея» и в которых именно эта, столь памятная им обоим строка должна была вызвать аналогичные переживания, опять озарить их заточенье «лучом лицейских ясных дней». Это непосредственно связывает данное стихотворение с уже известным нам задушевно-лирическим обращением поэта к Пущину, которое явилось его первым посланием в Сибирь, первым пушкинским приветом одной из жертв трагической декабрьской катастрофы. Однако в дальнейшем развитии темы нового, второго послания в Сибирь, проникнутого тем «лицейским духом», в котором Булгарин видел источник всяческого вольномыслия, Пушкин выходит за рамки узкого дружеского кружка, придавая ему гораздо более широкий общественный характер. Укрепить и поднять дух всех сосланных декабристов, обреченных на тягчайший труд в «каторжных норах», забайкальских Нерчинских рудниках, расположенных в местах, которые отличались убийственным климатом, вселить в них надежду на возможность освобождения — этим и определяется эмоционально приподнятый, задушевно-лирический, как и в послании к Пущину, тон стихотворения.
Но воодушевить сибирских узников Пушкин стремится не только тем, что внушает им эту надежду. Не падать духом, хранить гордое терпенье они могут — подчеркивает Пушкин с первых же строк своего послания — потому, что «не пропадет» их «скорбный труд || И дум высокое стремленье». Идя от вполне конкретного, поэт восходит здесь к очень широкому и в высшей степени значительному обобщению. «Скорбный труд» — это прежде всего тяжкая каторжная работа декабристов на рудниках под землей — «во глубине сибирских руд». Но помимо этого прямого и конкретного смысла, слова «скорбный труд» имеют и другое, далеко идущее значение, что явно подсказывается непосредственно следующими за этим словами: «и дум высокое стремленье». Скорбный труд — это не только каторжная работа, это вообще все их трагическое дело и трагическая судьба. Восстание кончилось и в данной исторической ситуации, при данном соотношении сил не могло не кончиться неудачей, крушением. Но руководились его участники высоким стремлением своих гражданско-патриотических, освободительных помыслов, стремлением, которому сам поэт (об этом прямо свидетельствует оценочный эпитет «высокое») сочувствует и которое разделяет. В то же время уже сама высокость этого стремления говорит о том, что оно не напрасно (здесь Пушкин как бы поправляет пессимистический тезис своих стихов 1823 года о сеятеле, вышедшем в поле слишком «рано, до звезды») — не пропадет. Так, исходя из слов лицейской «Прощальной песни», которые в данном контексте также наполняются и вполне конкретным и очень знаменательным содержанием, Пушкин — и это еще один замечательный образец его историзма — подымается до точной и верной, глубоко исторической формулы-оценки подвига декабристов. Именно так и поняли это те, кому послание было адресовано. «Струн вещих пламенные звуки || До слуха нашего дошли», — от имени всех сибирских узников писал в «Ответе на послание А. С. Пушкина» Александр Одоевский, в поэзии которого нашли наиболее яркое выражение мысли, чувства и настроения декабристов периода сибирской каторги и ссылки («мы», «наши», «наш», а не «я», «мои», «мой» фигурируют на протяжении всего стихотворения). Ответ Одоевского еще проникнут революционной романтикой, которая была так характерна для декабристской поэзии первой половины 20-х годов и с которой Пушкин в основном расстался уже года за два до разгрома восстания: «Мечи скуем мы из цепей || И вновь зажжем огонь свободы, || И с нею грянем на царей, — || И радостно вздохнут народы».
Правда, трагический опыт 14 декабря не прошел даром и для Одоевского. Он уже понимает теперь, что для победы над «царями» необходимы поддержка и участие народа: «И православный наш народ || Сберется под святое знамя». (В некоторых авторитетных списках вместо «православный» стоит эпитет «просвещенный» — это близко к уже известной нам политической концепции Пушкина: свобода народа — следствие его просвещения.) Но для периода дворянской революционности и такая мечта была совершенно нереальной. Поколение поверженных дворянских революционеров привлечь под свои знамена народ, снова восстать вместе с ним и на этот раз одолеть «царей» в данных общественно-исторических условиях никак не могло. Очень энергично звучит концовка и пушкинского послания: оковы падут, темницы рухнут. При чтении этих строк в сознании современников невольно должны были возникать ассоциации со столь близкими еще к ним и столь хорошо знакомыми событиями французской революции конца XVIII века, в частности взятием в 1789 году восставшими парижанами Бастилии (кстати, буквально теми же словами писал Пушкин об этих событиях в своем стихотворении «Андрей Шенье»: «Оковы падали. Закон, || На вольность опершись, провозгласил равенство…»). Однако, как и в ряде мест давней оды Пушкина «Вольность» (например, слова: «Восстаньте, падшие рабы»), патетический тон этой конечной строфы сильнее, чем лежащий в основе ее политический смысл, политическая концепция. Решительно из всех суждений и высказываний Пушкина последекабрьского периода очевидно, что в результате разгрома восстания декабристов он окончательно разуверился в возможности в данное время изменить существующий общественно-политический строй революционным путем. «Желанная пора» — освобождение декабристов — наступит не в результате вооруженного переворота, а «манием царя», на пути проявления той «милости», к которой призывал Николая поэт в «Стансах». Как долго питал поэт эту иллюзию в отношении Николая, лучше всего показывает письмо его к П. А. Вяземскому, которое было написано несколько лет спустя, в конце 1830 года, и в котором снова громко звучит надежда на то, что царь «простит» томящихся на каторге декабристов (XIV, 122). Если, несмотря на ряд тяжелых ударов и горчайших разочарований, Пушкин мог лелеять подобные иллюзии даже в 1830 году, тем сильнее они давали себя знать в период написания «Стансов» 1826 года и вскоре за этим последовавшего послания в Сибирь. В этом отношении характерна лексическая перекличка второй и третьей строфы послания с началом «Стансов». Стремление вдохнуть в сердца декабристов «надежду» на «желанную пору» освобождения (вторая строфа) непосредственно перекликается с первой строкой, открывающей «Стансы» и являющейся как бы их музыкальным ключом («В надежде славы и добра»). Еще знаменательнее перекличка эпитета «мрачный», имеющего и прямое, конкретное (темный, ибо под землей, в рудниках) и более широкое значение и дважды повторяющегося в послании («в мрачном подземелье», «мрачные затворы»), со строкой «Стансов»: казнь, осуждение декабристов на каторжные работы «мрачило» начало николаевского царствования. Но, как и в «Стансах», «мрачному» началу противопоставляется возможность «славного» продолжения («В надежде славы…», «Начало славных дней…»). Надеждой на это славное продолжение, в представление о чем входила и «милость» царя к томящимся на каторге декабристам, поэт хочет «разбудить» в их сердцах «бодрость и веселье». В этой связи приобретает еще одно и особое значение эпитет «свободный глас». Ведь и сам Пушкин тоже находился долгое время «во мраке заточенья» (послание к Керн 1825 года) — в ссылке. Новый царь, имеющий, как считал поэт, «семейное сходство» с Петром I, вывел поэта из этого «мрака», «освободил» и его «мысль» и его «глас» (торжественно заявил, что освобождает его от цензуры). Освобождение поэта является, в чем он хочет убедить декабристов, залогом их грядущего освобождения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Творческий путь Пушкина"
Книги похожие на "Творческий путь Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Благой - Творческий путь Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Творческий путь Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.