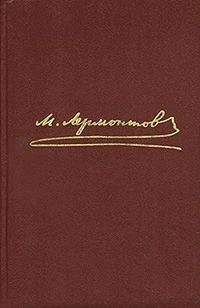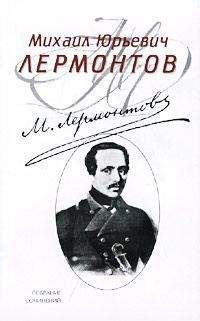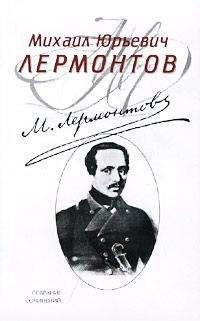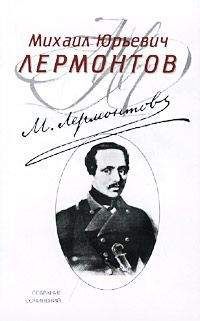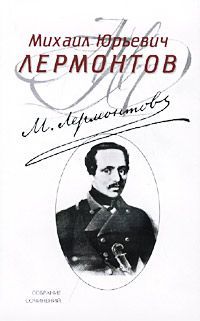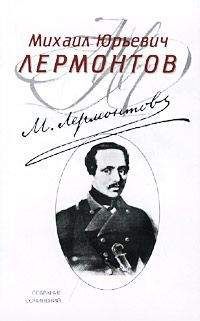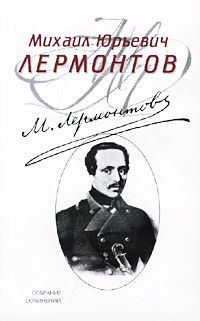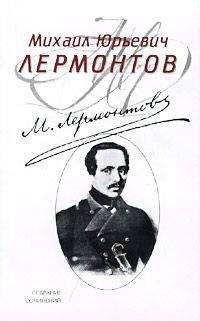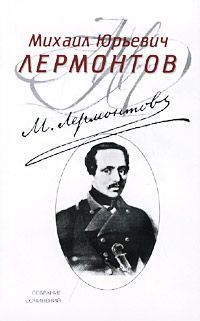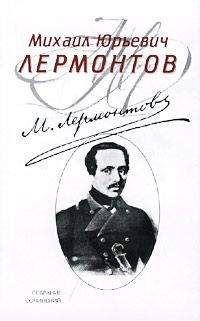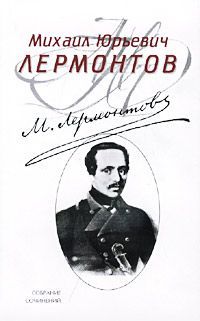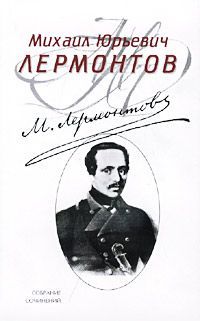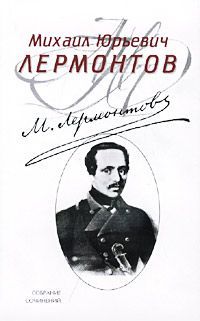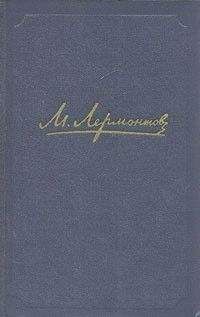Михаил Лермонтов - Том 4. Проза. Письма.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 4. Проза. Письма."
Описание и краткое содержание "Том 4. Проза. Письма." читать бесплатно онлайн.
Роман
Можно предположить, что Лермонтов был знаком с учением Фурье и в какой-то мере отразил его в романе, показав, как происходит искажение «страстей» под воздействием уродливых общественных форм.
«История души человеческой» превратилась в «Герое нашего времени» в общественно-политический роман.
Предисловие к «Герою нашего времени» было написано весной 1841 г. (когда Лермонтов в последний раз был в Петербурге) как ответ на критические статьи, появившиеся в журналах. Оно было напечатано во втором издании романа. Лермонтов отвечает здесь главным образом С. П. Шевыреву, который объявил Печорина явлением безнравственным и порочным, не существующим в русской жизни, а принадлежащим «миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада» (Москвитянин, 1841, ч. I, № 2, с. 537). Говоря о других критиках, которые «очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых», Лермонтов имел в виду главным образом С. Бурачка, напечатавшего статью о «Герое нашего времени» в своем журнале «Маяк» (1840, т. IV, с. 210–219). Если принять во внимание мнение Николая I (оно, по всей вероятности, было известно Лермонтову), назвавшего роман Лермонтова жалкой книгой, показывающей большую испорченность автора (см.: Э. Г. Герштейн. Судьба Лермонтова. М., 1964, с. 101–102), то смысл предисловия становится еще более значительным.
I. БэлаХудожественное своеобразие «Бэлы» состоит в искусном сочетании путевого очерка с новеллой. Сюжетное и жанровое значение этого сочетания подчеркнуто самим автором в том месте, где он обращается к читателю с вопросом: «Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы?» – и отвечает: «Я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле». Таким образом, история Бэлы оказалась частью путевого очерка – наряду с описанием подъема на Койшаурскую гору, ночевки в сакле, переезда через Гуд-гору и новой остановки в сакле.
Повесть впервые была опубликована с подзаголовком «Из записок офицера о Кавказе», который свидетельствовал о ее принадлежности к массовой романтической «кавказской литературе» очень популярной в 1830-е гг. Однако эта близость была чисто внешней. Особенности стиля повести говорят о том, что образцом для Лермонтова было «Путешествие в Арзрум» Пушкина, написанное вопреки традиции живописно-риторических описаний – см.: Б. М. Эйхенбаум. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». – В кн.: М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. М., 1962, с. 148–149 (сер. «Литературные памятники»).
II. Максим МаксимычЭтот рассказ служит своего рода продолжением тех слов, которыми заканчивается «Бэла»: «Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?..» Здесь Максим Максимыч – уже не рассказчик, а действующее лицо, показанное в новом и неожиданном свете: «добрый Максим Максимыч», каким он кажется в «Бэле», превращается здесь в «упрямого, сварливого штабс-капитана». Автор с грустным сочувствием отмечает эту перемену, объясняя ее потерей лучших надежд и мечтаний; «старые заблуждения» ему уже не заменить новыми: «Поневоле сердце очерствеет и душа закроется».
В рукописи рассказ «Максим Максимыч» кончался особым абзацем, где автор сообщал: «Я пересмотрел записки Печорина и заметил по некоторым местам, что он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло доверенность штабс-капитана». В самом деле, Печорин в некоторых местах обращается к читателям. В печатном тексте этот абзац отсутствует, а в предисловии к «Журналу Печорина» Лермонтов, наоборот, отмечает, что записки Печорина писаны «без тщеславного желания возбудить участие или удивление» и не предназначалась для посторонних.
Журнал Печорина I. Тамань«Тамань» выделяется среди других новелл, составляющих «Героя нашего времени», острой напряженностью сюжета и особой лиричностью повествования.
Вопрос о времени написания «Тамани» в научной литературе окончательно не решен. В новейшее время было предложено датировать «Тамань» ноябрем – декабрем 1839 г. (Э. Г. Герштейн. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1976). Более вероятно, что «Тамань» была создана раньше других новелл, входящих в «Героя нашего времени», и возможно еще до возникновения замысла романа (См.: Б. М. Эйхенбаум. Статьи о Лермонтове. М. – Л., 1961, с. 243–248; Б. Т. Удодов. М. Ю. Лермонтов. Воронеж, 1973, с. 484–490).
В мемуарной литературе есть указания на то, что описанное в «Тамани» происшествие случилось с самим Лермонтовым во время его пребывания в Тамани у казачки Царицыхи, в 1837 г. В 1838 г. товарищ Лермонтова М. И. Цейдлер, командированный на Кавказ, останавливался в Тамани и жил в том самом домике, где до него жил Лермонтов. В своем очерке «На Кавказе в тридцатых годах» Цейдлер описывает тех самых лиц, которые изображены в «Тамани», и поясняет: «…Мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне же помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь» (Воспоминания, с. 209).
Чехов считал этот рассказ образцом прозы: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, – по предложениям, по частям предложения… Так бы и учился писать» (Русская мысль, 1911, кн. 10, с. 46). В письме к Я. П. Полонскому Чехов утверждал, что русские стихотворцы прекрасно справляются с прозой, и приводил примеры: «…лермонтовская „Тамань“ и пушкинская „Капит<анская> дочка“, не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30 тт. Письма, т. 2, М., 1975, с. 177).
II. Княжна Мери«Княжна Мери» – центральная часть записок Печорина. Здесь завершены те опыты психологического анализа, которые были начаты Лермонтовым в романе «Княгиня Лиговская» и в драме «Два брата». В «Княжне Мери» наиболее широко представлена картина современной Печорину жизни, быт и нравы окружающей его среды, посетителей Кавказских минеральных вод – «водяного общества». Некоторые из современников поэта (Э. А. Шан-Гирей, И. П. Забелла) полагали, что в лице Грушницкого Лермонтов вывел Н. П. Колюбакина, сосланного на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк. Приятель А. А. Бестужева-Марлинского, Колюбакин вел себя «несколько в духе его героев». Называли и другого прототипа Грушницкого – Н. С. Мартынова. В Вере Лиговской отразились черты В. А. Лопухиной-Бахметевой (см. примечания к «Княгине Лиговской», наст. том, с. 452). В княжне Мери одни видели Н. С. Мартынову, сестру убийцы Лермонтова, другие – Э. А. Клингенберг, впоследствии вышедшую замуж за А. П. Шан-Гирея (сама Э. А. Шан-Гирей решительно опровергала эту версию).
Наиболее вероятно, однако, что каждое действующее лицо романа представляет собой образ собирательный, а не просто «списанный с натуры».
Из рукописи «Княжны Мери» видно, что Лермонтов хотел было приоткрыть завесу над прошлым Печорина и объяснить его появление на Кавказе: «Но я теперь уверен, – говорит Печорин о княгине Лиговской, – что при первом случае она спросит, кто я и почему я здесь на Кавказе. Ей, вероятно, расскажут страшную историю дуэли, и особенно ее причину, которая здесь некоторым известна, и тогда… вот у меня будет удивительное средство бесить Грушницкого!» Однако все это вычеркнуто, и читатель оставлен в неведении относительно прошлой жизни Печорина. По-видимому, биография Печорина сознательно исключалась из повествования; внимание автора было сосредоточено на изображении внутренней жизни героя.
III. Фаталист«Фаталист» – заключительное звено в системе повестей, составляющих «Героя нашего времени». Здесь подводится известный итог «Журналу Печорина» и даже роману в целом. Для понимания повести необходимо учесть, что под словом «фатализм» Лермонтов подразумевал не только фаталистическое умонастроение вообще, но и распространенную в это время (и осужденную в «Думе») позицию пассивного примирения с действительностью. В «Фаталисте» теоретический вопрос о роли судьбы не решается. Проблема рассматривается скорее в психологическом плане. Вывод оказывается неожиданным с точки зрения отвлеченных размышлений, но психологически он оправдан: если согласиться с существованием предопределения, то тем более следует стать на позицию активного отношения к жизни.
Фамилия офицера в рукописи рассказа читается «Вуич» – вначале Лермонтов дал своему герою фамилию Ивана Васильевича Вуича (1813–1884), поручика лейб-гвардии Конного полка.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 4. Проза. Письма."
Книги похожие на "Том 4. Проза. Письма." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Лермонтов - Том 4. Проза. Письма."
Отзывы читателей о книге "Том 4. Проза. Письма.", комментарии и мнения людей о произведении.