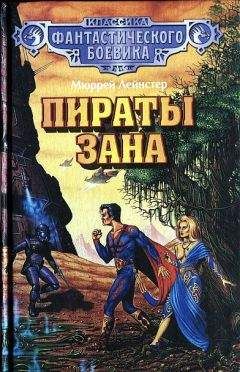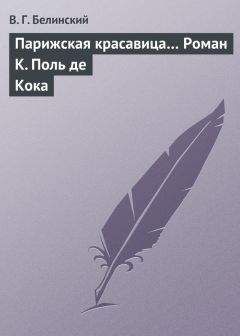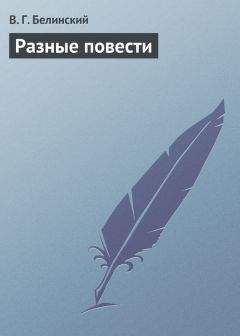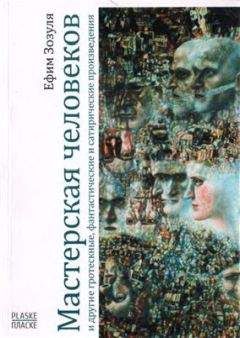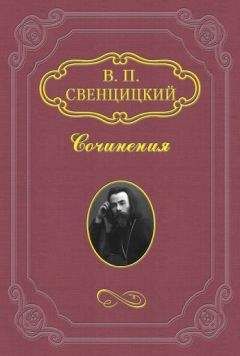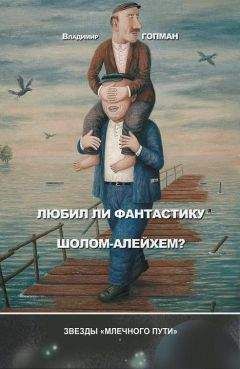Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Владимир Набоков: pro et contra"
Описание и краткое содержание "Владимир Набоков: pro et contra" читать бесплатно онлайн.
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Столь же личностны (хочу удержаться от маловыразительного определения — субъективны) и малодоказательны конкретные претензии: «В мире Достоевского нет погоды, поэтому, как одеты персонажи, не имеет никакого значения». Или: «Описав наружность героя, он по старинке уже не возвращается к ней. Большой художник так не сделает…». Вообще с доказательствами и аргументами плохо, и Набоков, увлеченный развенчанием, буквально подставляется под свой же запрет — ставя «как» превыше «что», не допускать, чтобы это переходило в «ну и что». Ну и что из того, скажем мы, что у Достоевского нет погоды? Что это доказывает? И с точки зрения какой это нормы следует поминутно описывать наружность персонажей? Набоков — в пику Достоевскому — хвалит Толстого: «Толстой все время видит своих героев и точно знает, какой жест последует в тот или иной момент». Но есть десятки художников, кстати, и признаваемых Набоковым, кто не все время видит своих героев, а то и просто упускает их из виду — если, допустим, интересуется в тот или иной момент развитием действия. К тому же можно привести достаточно много опровержений — есть у Достоевского и описания погоды, а на сравнениях внешности героев в начале, в середине и в конце повествования строится порой линия судьбы (ну, хотя бы история с портретом Настасьи Филипповны или пресловутой маской Ставрогина).
Набокову не нравятся сентиментальность романов Достоевского, мелодраматизм его героев и его самого. В укор Достоевскому Набоков проводит сопоставление между мелодраматической сентиментальностью и способностью тонко чувствовать: первое, конечно, приписано Достоевскому, второе великодушно взято себе. И дальше следует каскад обвинений: «Сентиментальный человек может быть в частной жизни чрезвычайно жестоким. Тонко чувствующий человек никогда не бывает жесток…[431] Сентиментальная старая дева может пестовать своего попугая и отравить племянницу. Сентиментальный политик может помнить о Дне матери и безжалостно расправиться со своим соперником. Сталин любил детей. Ленин рыдал в опере, особенно на „Травиате“. Целый век писатели воспевали простую жизнь бедняков». Ну и что? — спрошу я. Чего стоит этот набор штампов и общих мест? Достоевский не травил своих племянников, но, как Сталин и как, кстати, и Набоков, любил детей. Что это доказывает? Что Достоевский-писатель — посредственность? Какое отношение к творчеству Достоевского имеют слезы Ленина в опере?
Но дело, мне кажется, было вовсе не в доказательствах: похоже, Набоков даже и не заботился, чтобы его обвинительное заключение выглядело хоть сколько-нибудь убедительно.
Неубедительно, зато методически изысканно и наглядно — ведь Набоков любил «наглядность» на своих лекциях. Но если для «Анны Карениной» изобретался чертежик вагона, где героиня Толстого общалась с маменькой своего будущего возлюбленного, в досье Достоевского подбирались совсем другие (прошу прощения за термин) вещдоки.
«Я порылся в медицинских справочниках, — пишет Набоков, — и составил список психических заболеваний, которыми страдают герои Достоевского». И далее реестрик, выполненный будто бы строгим ревизором-статистиком, регистрирует: «I. Эпилепсия. Четыре явных случая… II. Старческий маразм. Один случай… III. Истерия… Два случая откровенно клинических… разнообразные формы истерических наклонностей… Большая часть женских персонажей отмечена склонностью к истерии… IV. Психопатия… Психопатов среди главных героев множество; Ставрогин — случай нравственной неполноценности, Рогожин — жертва эротомании. Раскольников — случай временного помутнения рассудка, Иван Карамазов — еще один ненормальный. Все это случаи, свидетельствующие о распаде личности. И есть еще множество других примеров, включая несколько совершенно безумных персонажей» (процитировано с небольшими сокращениями).
Резонно бы спросить здесь: почему склонность к психическим заболеваниям героев Достоевского служит компроматом для их автора? Почему, кстати, подобное исследование не было проведено в отношении героев Чехова (где, как известно, имелась целая палата сумасшедших)? Чем, в конце концов, психические заболевания криминальнее легочных или сердечно-сосудистых, которыми болели герои русской литературы XIX века?
Конечно, судить о потенциале писателя, сверяясь с медицинским справочником, занятие любопытное. Но как литературный критик и профессиональный писатель Набоков в этом фрагменте своей университетской лекции мог бы быть и поискушеннее: мог бы, скажем, не опускаться до уровня коммунально-бытовых реплик типа «еще один ненормальный». Вообще страстное желание развенчать сослужило ему плохую службу: его лекциям о Достоевском очень легко и потому неинтересно возражать. Обличительный пафос обернулся не силой анализа, а резкостью тона и грубостью оценок, явными алогизмами и плохо скрытым раздражением. Похоже, Набоков, выступая перед американскими студентами из года в год в течение восемнадцати лет, убеждал — не столько их, сколько самого себя — в том, что страстно хотел бы считать правдой. Но, чувствуя, по-видимому, что внушить, загипнотизировать аудиторию не удается или удается не всегда, он прибегал даже и к запрещенному для преподавателя приему: не доказывал, а пытался договориться со слушателями «не думать о белых медведях»: «Раз и навсегда условимся, что Достоевский — прежде всего автор детективных романов».
Лекции были простейшим шансом разделаться с Достоевским, вернее, отделаться от него, простейшим и — насколько можно судить — достаточно бессильным ходом для опытнейшего мастера и стилиста-виртуоза Набокова. Позволю предложить рискованную параллель: лекционная деятельность Набокова (если взять в скобки ее материально-практический смысл) была чем-то напоминающим публицистические выступления Достоевского, некоей заменой, имитацией общественно-политического включения в действительность. Но у Набокова не было политических врагов — в силу его аполитичности, возведенной в принцип. Сражения с литературными соперниками, чему со страстью отдавался Набоков, проповедуя с кафедры, как будто восполняли что-то упущенное, компенсировали нечто, что, может быть, не удалось совершить на основном поприще, где, казалось, он был царь и Бог — диктатор. Что-то, связанное с Достоевским, чем дальше, тем больше мучало и донимало Набокова — настолько, что он готов был отказаться и отказывался даже от своих прежних слов. Так, единственная похвала Достоевскому («Мне кажется, что лучшая вещь, которую он написал, — „Двойник“. Эта история, изложенная очень искусно…»), произнесенная на Лекциях, была впоследствии сильно подмочена самим же Набоковым — в том самом интервью, данном бывшему студенту: «„Двойник“ Достоевского — лучшая его вещь, хотя это и очевидное, и бессовестное подражание гоголевскому „Носу“»[432].
Запомним эти слова — «очевидное и бессовестное подражание». Раз и навсегда условимся (по методу Набокова) никогда не употреблять их по его адресу. Но зададим вопрос, который давно уже рвется наружу, имеют ли к творчеству Набокова хоть какое-нибудь, пусть косвенное, отношение все эти эротоманы, психопаты, неврастеники и ненормальные из «детективных» романов Достоевского? Или мир Набокова, изысканный, нормальный, заполненный блистательными описаниями природы и порхающими бабочками, непроницаем для безумия, криминальной эротики, инфернальных героев и героинь?
3«…В этом приватном мире я совершеннейший диктатор», — как мы помним, признавался Набоков. Но до чего непослушны и непохожи на своего «хозяина» его «литературные» герои — литературные в том еще смысле, что сами профессионально занимаются литературой. «На всякий случай я хочу вас предупредить, — честно признается один из персонажей „Дара“, поэт Кончеев, единственный человек из окружения Федора Годунова-Чердынцева (alter-ego Набокова), чье мнение тот высоко ценит, — чтобы вы не обольщались насчет нашего сходства: мы с вами во многом различны, у меня другие вкусы, другие навыки, вашего Фета я, например, не терплю, а зато горячо люблю автора „Двойника“ и „Бесов“, которого вы склонны третировать». Ситуация парадоксальна даже для виртуоза Набокова: дело ведь не в том, что один из персонажей защищает Достоевского от другого персонажа, более близкого к автору, чем первый. Реплика Кончеева — игра воображения, фантазия Годунова-Чердынцева, придумавшего, впрочем, и весь диалог о литературе. Значит, на воображаемом пятачке дважды условного литературного пространства совмещаются и уживаются и Набоков, сочинивший «Дар», и его герой Годунов-Чердынцев, написавший книгу о Чернышевском (четвертая глава «Дара»), и друг героя, поэт, интеллектуал и эстет Кончеев, опубликовавший замечательную рецензию на книгу Годунова (то есть на главу из романа Набокова, «сказочно-остроумная книга», — написал он), и Достоевский, обласканный поэтом Кончеевым в пику двум другим литераторам — Годунову и Набокову. (Я могу представить себе гипотетическую ситуацию, когда диктатору Набокову захотелось создать героя, который, находясь с автором примерно в одних литературных чинах, ослушался бы и заявил о своем несогласии по фундаментальным эстетическим позициям. Такая ситуация скорее всего отразила бы некие сомнения Набокова, его мучительную раздвоенность: притяжение-отталкивание, любовь-ненависть к Достоевскому.)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Владимир Набоков: pro et contra"
Книги похожие на "Владимир Набоков: pro et contra" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra"
Отзывы читателей о книге "Владимир Набоков: pro et contra", комментарии и мнения людей о произведении.