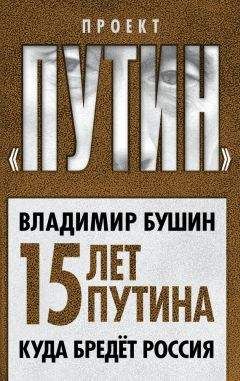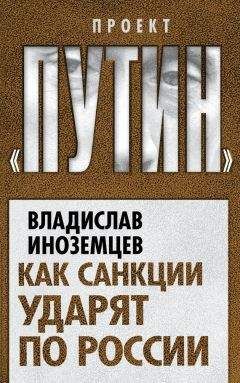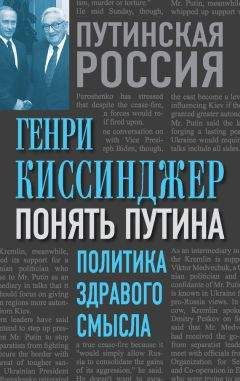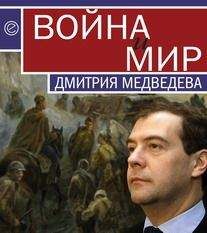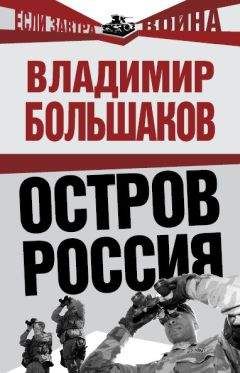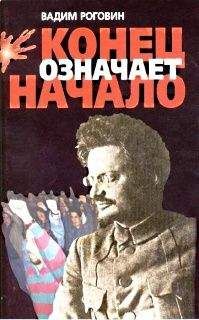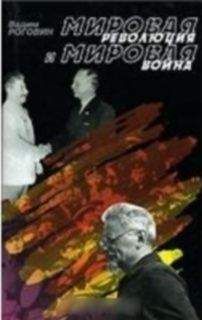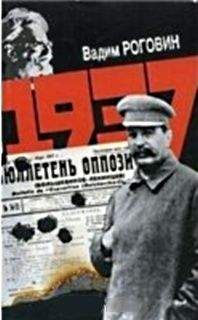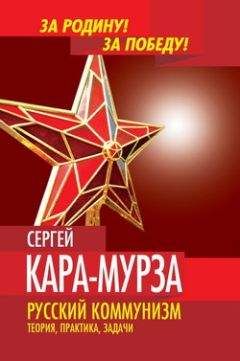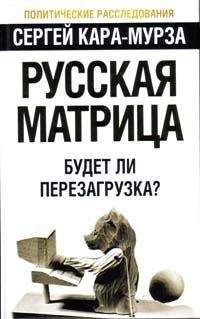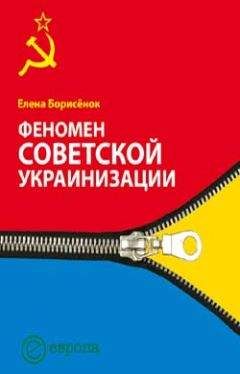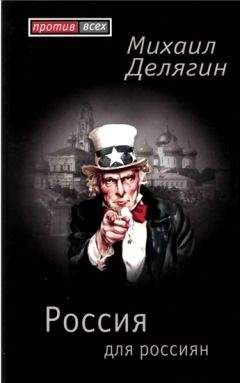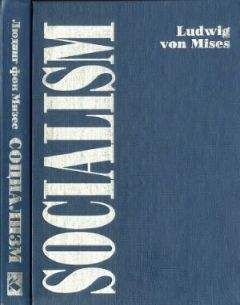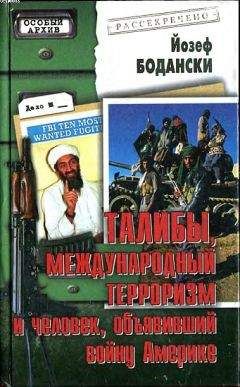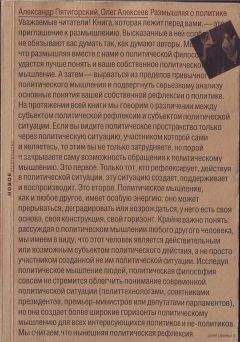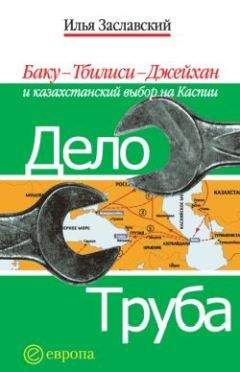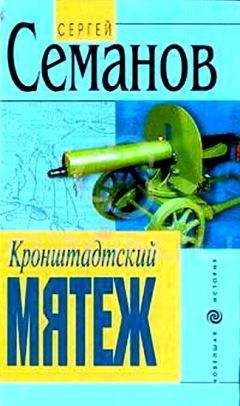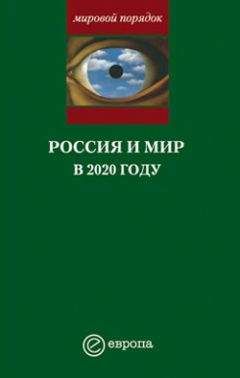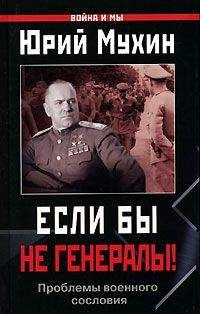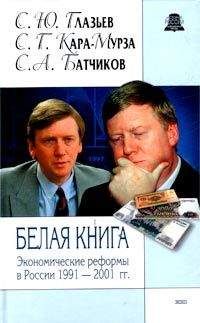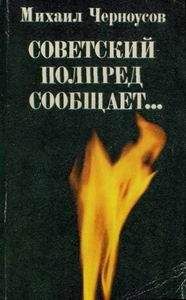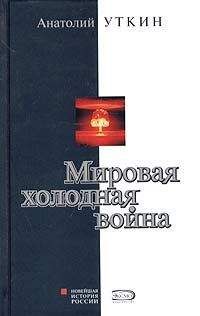С Павлюченков - Россия нэповская
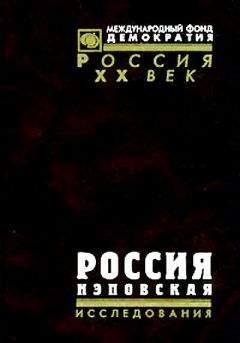
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Россия нэповская"
Описание и краткое содержание "Россия нэповская" читать бесплатно онлайн.
Исследование посвящено новой экономической политике большевиков, к которой они вынуждены были перейти весной 1921 г. под влиянием массового недовольства политикой военного коммунизма. На основе новых архивных материалов анализируются события и кризисные явления 1920-х гг., их политические, экономические и социальные предпосылки, завершившиеся свертыванием нэпа.
Книга не только расширяет и углубляет историческую картину того времени, но позволяет лучше понять и современную ситуацию.
В феврале 1922 года Агитпроп ЦК РКП(б) поручил редакции «Красной нови» выступить в качестве противовеса многочисленным частным издательствам. В июне того же года Политбюро ЦК создало специальную комиссию для создания новой организации писателей и поэтов. Комиссия объявила себя беспартийной и попыталась объединить пролеткультовцев, имажинистов (Мариенгоф, Есенин, Шершеневич и др.), «Серапионовых братьев» и некоторых «неустойчивых» авторов, вроде А. Толстого[595]. В значительной степени это удалось: так или иначе к сотрудничеству были привлечены почти все писатели старой школы, а также такие молодые авторы, как Л. Леонов, Л. Сейфуллина, Вс. Иванов, И. Бабель. «Писатели, впоследствие разошедшиеся из-за противоположных политических взглядов или художественных установок, в то время (1922–1924 годы) казались дружными, часто виделись…», — вспоминали современники[596].
Созданный еще в 1917 году Пролеткульт менялся. Теперь это было не просто «классовое» движение — его лидеры решили овладеть всей полнотой власти в области культуры[597], намереваясь, что особенно показательно, слиться с государственной организацией — Наркомпросом. Но установки Пролеткульта были неоднородны — он все же оставался в своих низах творческой организацией. А. Платонов, отрицая искусство, как творческую специализацию, вслед за А. Богдановым полагал, что «в царстве сознания» оно станет «товариществом совершенной организации из хаоса»[598]. Обращаясь к начинающим литераторам, он призывал «смести с земли все чудовищное, злое и гадкое, чтобы освободить место для строительства прекрасного и доброго»[599]. Подобный творческий экстремизм мог быть истолкован леваками как призыв к борьбе со «старой» литературой. Именно такая ситуация была наиболее выгодна власти.
Но пролеткультовцы были пока неуправляемы. В 1923 году возникла Московская ассоциация пролетарских писателей — МАПП, включавшая в себя сотрудников «Октября» и часть «коммунистических» футуристов. Они собирались воздействовать на «психику и сознание читателей в сторону коммунистических задач пролетариата»[600]. С 1924 года существовала Российская ассоциация пролетарских писателей — РАПП, наиболее мощное литературное объединение 1920-х годов. Ее основными печатными органами были журнал «На посту» (1923 год), с 1925 года — «На литературном посту». Деятельность РАППа носила воинственно «классовый» характер. На страницах его органов велась яростная кампания против таких «непролетарских» попутчиков, как М. Горький, В. Маяковский, С. Есенин, А. Толстой, Л. Леонов и др. Рапповцы претендовали на монополию в области творчества, взывая к «принципу партийности». Один из их идеологов Л. Авербах полагал, что отношение к крестьянской литературе должно строиться по аналогии с гегемонией пролетариата: «Пролетарская литература должна стать и идеологическим и организационным центром для растущего крестьянского писателя»[601]. Журнал «На посту» атаковал буквально всех — группу «Кузница», лефовцев. Он предъявил претензии и к самой большевистской партии, обвиняя ее в том, что она безучастно наблюдает за засильем в литературе всевозможных попутчиков. Особым нападкам подвергся Воронский, якобы саботировавшей партийные задания. Даже Троцкий осуждался за заявление о том, что нет и не может быть никакой особой пролетарской литературы.
В январе 1925 года собравшиеся на Всесоюзную конференцию пролетарских писателей литераторы потребовали, чтобы они и «непролетарские» писатели были поставлены в «равное» положение. Предлагалось, что после использования «культурных сил попутчиков», следует выдвинуть вперед пролетарских писателей, сделав критерием творчества «первенство содержания над художественностью»[602].
Последовала быстрая реакция со стороны партийных инстанций. В феврале 1925 года комиссия ЦК РКП(б) (Варейкис, Бухарин, Томский, Фрунзе, Куйбышев, Андреев, Луначарский и Нариманов) высказалась за сохранение союза с писателями-попутчиками. Аргументация была такова: партия не может «передоверить» руководство художественной литературой какой бы то ни было группе писателей; сама она должна ограничиться выработкой общего литературно-политического курса. Рычагами партийного руководства были признаны подборка состава редколлегий, использование «орудия критики», цензура[603]. Принятое в июне 1925 года постановление ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» подтвердила эти установки. В целом же, что характерно для всей политики ЦК в 1925 году, подтверждалось действие по «средней» линии. Вновь подчеркивалась необходимость создания массовой, понятной миллионам рабочих, крестьян и красноармейцев литературы.
Излишние левизна и самостоятельность леваков были большевистскому руководству подозрительны. Автор знаменитого «Чапаева» Д. Ф. Фурманов, бывший одним из руководителей ВАППа, в дневниках, опубликованных в 1937 году, признал, что «пролетарские писатели» вовсе «не стремились приблизиться к парторганам, а наоборот — отмежевывались от них…»[604]. Это вызывало подозрения. Но «средняя» линия по отношению к литераторам держалась лишь до 1928 года.
Как бы то ни было, литераторы получили возможность творческой самоориентации в соответствии с «запросами времени». Это приобрело противоречивые формы. Представители «Литературного центра конструктивистов» (И. Сельвинский, В. Инбер, Н. Адуев), именуя себя выразителями «умонастроений нашей переходной эпохи», проповедовали «советское западничество» и ориентировались на американизированный технократизм. В области поэзии упор делался на «математизацию» и «геометризацию» стиля. В группу «Левый фронт искусств» (ЛЕФ) входили экс-футуристы В. Маяковский, Н. Асеев, В. Каменский, С. Третьяков, С. Кирсанов, которые строили свою эстетику с оглядкой на пролеткультовцев, концепцию «литературы факта» и даже отрицали художественный вымысел и психологизм. Лефовцы упорно пытались сплотиться с Агитпропом и добиться признания со стороны партии, но в 1923 году Троцкий холодно заявил, что партия не собирается «канонизировать» ЛЕФ в качестве «коммунистического искусства»[605]. Подобное отношение сохранилось надолго — в результате ЛЕФ, как самостоятельное течение, сходил на нет.
Примечательно, что в окололитературных склоках 1920-х годов в полной мере проявил себя жанр доноса. Иногда это было связано с причинами чисто материального свойства. В 1922 году группа писателей (А. Серафимович, Н. Фалеев, М. Журавлева) обратилась в Агитпроп с письмом, содержащим список лиц «на получение академического пайка для работников искусств». Указывалось, что право на паек безусловно имеют такие таланты, как Брюсов, Вересаев, Маяковский, Гладков, Новиков-Прибой и целая масса «даровитых» писателей пролетарского происхождения и подобающих эстетических установок. Напротив, лишить пайка предлагалось Арцыбашева, Мандельштама, Шершеневича, А. Соболя, Осоргина, Мариенгофа, Айхенвальда и других — они получают гонорары из-за границы и, к тому же, «бездарны», «бесполезны», отмечены пороками литературного разложенчества. Примечательно, что в списке «правильных» литераторов (таковых набралось пока 41 человек) фигурировал и А. Гастев — коммунист, «автор пролетарских ярких произведений, большое дарование и влияние на массы».
Стиль доноса говорит сам за себя. Скоро и другие группы писателей, и отдельные авторы стали привыкать к выяснению отношения между собой путем апелляции в партийные верхи.
Большевистское руководство, точнее бюрократический аппарат, несмотря на заявления Троцкого и Луначарского о принципиальном невмешательстве партии в литературный процесс, действовало на основании циркуляра ЦК от 1923 года о проверке и подборе состава ответственных редакторов периодических изданий[606]. В августе 1926 года в ведение реорганизованного Отдела печати ЦК передавалось «идеологическое руководство» всеми органами печати[607]. Писатели ощущали, что их творчество находится под высочайшим наблюдением.
В начале 1920-х годов в художественном творчестве доминировала поэзия, причем приоритетным признавалось «устное творчество» (литературные вечера, концерты и диспуты) — в известной степени из-за нехватки бумаги, а не только по причине ориентации на фольклор. На деле тон культурной жизни задавался другим. В 1921–1923 годах появляются такие произведения дореволюционных авторов, как «История моего современника» В. Короленко, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, «Преображение» С. Сергеева-Ценского. По-иному зазвучало творчество тех, кого ранее связывали с декадентско-символическим и формалистическим направлениями (А. Белый, Е. Замятин, А. Ремизов).
Кардинальная для русской литературы проблема героя на некоторое время оказалась потеснена проблемой сюжета, формы и стиля — авторы ощущали потребность стать созвучными революционному времени. Место действующих лиц уверенно заняла сама эпоха с ее людской массой. Это заметно уже у Б. Пильняка («Голый год», 1920 год), В. Лидина («Мышиные будни», 1922 год), Ф. Гладкова («Огненный конь», 1923 год). Что касается собственно героя, то вместо того, чтобы встать в «авангарде», он всякий раз оказывался на перепутье.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Россия нэповская"
Книги похожие на "Россия нэповская" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "С Павлюченков - Россия нэповская"
Отзывы читателей о книге "Россия нэповская", комментарии и мнения людей о произведении.