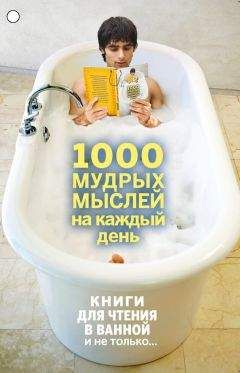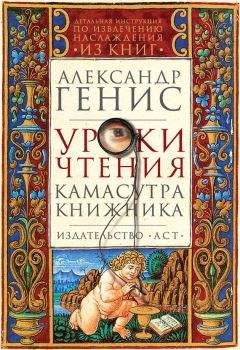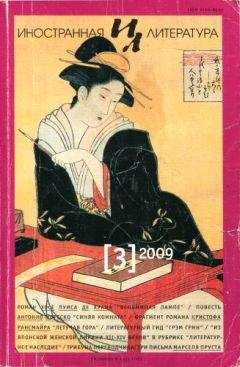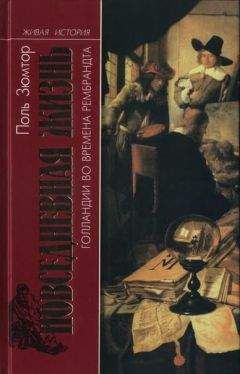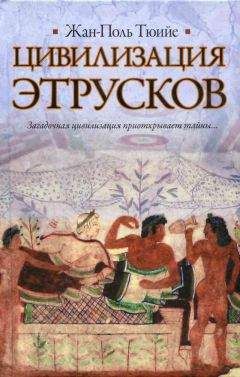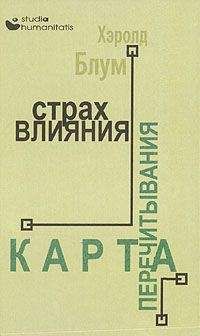Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Описание и краткое содержание "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста" читать бесплатно онлайн.
Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.
Необходимость подчеркнуто драматизировать позицию убежденного человека — самый настоящий императив, ибо генетическая оценка Диониса вновь вводит в текст все категории, первоначально вызвавшие сомнения, включая понятие онтологически обоснованной системы ценностей. При всей своей генетической последовательности движение «Рождения трагедии» как целого, равно как и движение его составных частей, странным образом амбивалентно по отношению к главным фигурам собственного дискурса: обосновывающей повествовательный модус категории представления и обосновывающей всепроникающий голос оратора категории субъекта.
Представление (которое в тексте по большей части называют Vorstellung или Abbild) функционирует на всем его протяжении как подчеркнутое отрицание ценностей. С чисто исторической точки зрения, «Рождение трагедии» можно поместить среди пред-экспрессионистских критических документов, которые подготавливают появление нерепрезентативного искусства; вполне может быть, что это и есть главное значение текста в истории художественной критики. Основные мишени этой критики — современная драма того типа, который ассоциируется с творчеством Лессинга (burgerliches Trauerspiel), ее греческий контрапункт в лице Еврипида, репрезентативная музыка флорентийской оперы и ее греческий контрапункт в лице аттического дифирамба. Все они отвергаются как случаи измены трагическому истоку музыки. Сложное различение «плохого» подражания реалистического искусства и «хорошего» подражания музыки Вагнера на самом деле нацелено на то, чтобы подвергнуть сомнению тождество истока и цели, оформляющее генетический образец самого текста. Опровержение реализма сперва передается через отказ от сверхдетализации, сводящей богоподобную всеобщность трагедии к тривиальности подражательной музыки, драмы характеров или личностной лирики. Но Ницше прорывается сквозь очевидные ограничения этого конвенционального взгляда и, отвергнув его, движется, руководимый уверенным герменевтическим инстинктом, к пунктам, где чувствуется подражание, к началу и к концу произведений, к точкам, в которых проверяется действенность генетического образца. Нам сообщают, что в творчестве Еврипида или эквивалентных ему наших современников авторитет, возможность положиться на действие в контексте истины и лжи, скрыто присутствующий в трагедии Софокла и Эсхила, становится открытым: «Пафос экспозиции пропадал [для Еврипида] . Поэтому он и помещает пролог еще перед экспозицией и влагает его в уста персонажу, заслуживающему доверия: какому-нибудь божеству приходилось зачастую как бы гарантировать публике ход трагедии и рассеивать все сомнения в реальности мифа; подобным же образом, как Декарт мог доказать реальность эмпирического мира только ссылкою на правдивость Бога и на его неспособность ко лжи» (3:88-89; 12. 1,105). Исток и начало повествования — это буквальное, фактичное действие божественного откровения и авторитета. То же самое можно сказать и о конце: тот же самый бог должен вновь появиться на сцене, для того чтобы разрешить очевидно безнадежные сложности и внести достоинство в неразбериху человеческих занятий. Тот же «гуманистический» образец открыто применяется в «Рождении трагедии», в тексте, основанном на авторитете человеческого голоса, получающего этот авторитет от своей близости к квазибожественной фигуре. Пролог, обращение к Рихарду Вагнеру, именуется прославлением и благословляет истину повествования, потому что Ницше «видел [Вагнера] перед собою и обращался к [Вагнеру], а следовательно, мог написать лишь нечто соответствующее... присутствию [Вагнера]» (предисловие, 3:19. 1, 57). Развязка повествования зависит от возрождения этого самого Духа; как deus ex machina, Вагнер вновь появляется на сцене, чтобы повернуть вспять декаданс в искусстве и привести эссе к его триумфальному завершению. Насколько «Рождение трагедии» как повествование о последовательных событиях, обрамленное появлением и повторным появлением того же самого воплощенного духа, представляет собой историю трагедии, насколько как текст оно напоминает флорентийскую оперу или biirgerliches Trauerspiel, а не Софоклову трагедию или Вагнерову оперу. Поэтому оно подвержено обращенной против этих художественных форм критике. Внутритекстовая структура, помещенная вовнутрь большей структуры всего текста, подрывает авторитет голоса, утверждающего надежность репрезентативного образца, на котором основывается текст. И она ослабляет фигуру именно в тех пунктах, которые устанавливают ее генетическую последовательность, ослабляя авторитет власти, своим присутствием поддерживающей единство начала и конца.
Поэтому не удивительно, что мы должны с подозрением отнестись к тому, что дискредитированное понятие представления вновь вводится, для того чтобы отличить музыку от чисто подражательного реализма. Ницше не может не считать неизбежный репрезентативный момент конститутивной стихией музыки. Трагическое дионисическое прозрение не становится, как в творчестве Руссо, отсутствием всякого значения, но оказывается значением, с которым мы не можем встретиться по психологическим или моральным причинам. То, что Ницше вслед за Шопенгауэром называет «волей»,— это все еще субъект, сознание, способное познавать, что оно может, а что не может испытать, способное к познанию своего собственного воления. Самопредставляющее свойство воли — это действие самоволения; в музыке воля «волит» себя как представление. Определение музыки по Шопенгауэру как «непосредственного образа воли [unmittelbares Abbild des Willens]» опирается на власть и авторитет воли как субъекта. Поэтому Ницше может писать, как говорится, только с точки зрения воли. Авторитет его голоса должен узаконить действие, приостанавливающее [aufgehoben] разрешение апории непосредственного представления, которая сама по себе логически абсурдна.
«Можно сказать,— пишет Лаку-Лабарт,— что „Рождение трагедии" в конце концов не что иное, как двусмысленный комментарий к этому единственному высказыванию Шопенгауэра [что музыка — это непосредственный образ Воли], никогда не принимавшемуся без ограничений, но никогда также серьезно не оспаривавшемуся»[99]. Учитывая способ, которым риторически организовано «Рождение трагедии», изречение Шопенгауэра может стать «поистине оспаривавшимся» только путем подрыва авторитета повествователя при помощи внутренней динамики текста. Негативная оценка репрезентативного реализма и частного лирического голоса ( в пятом разделе ) именно так воздействует на повествовате- ля-оратора «Рождения трагедии».
Это становится ясным именно в ходе демонстрации исключительной ценности вагнерианской оперы. Повествовательная мифологическая надстройка, пробуждающая чувства жалости и сочувствия, должна создать настоящее равновесие отдаления и отождествления, для того чтобы «спасти» аудиторию от «непосредственного созерцания высшей идеи мира», от «несдержанного излияния бессознательной воли» (3:144; 21. i, 142). «Миф обороняет нас от музыки» (3:141; 21. i, 140), если дионисическая истина музыки, как «Ding an sich», должна быть сохранена и если музыка — это исток и цель всего искусства, тогда «чистая», нерепрезентативная музыка должна быть буквально нестерпимой.
Я обращаюсь лишь к тем, кто, непосредственно сроднившись с музыкой, имеют в ней как бы свое материнское лоно и связаны с вещами почти исключительно при посредстве бессознательных музыкальных отношений. К этим подлинным знатокам музыки обращаю я вопрос: могут ли они представить себе человека, который был бы способен воспринять третий акт «Тристана и Изольды» без всякого подобия слова и образа, в чистом виде, как огромную симфоническую композицию, и не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души? Человек, который, как в данном случае, словно бы приложил ухо к самому сердцу мировой воли и слышит, как из него бешеное желание существования изливается по всем жилам мира — то как гремящий поток, то как нежный, распыленный ручей,— да разве такой человек не был бы сокрушен в одно мгновение? Да разве он мог бы в жалкой стеклянной оболочке человеческого индивида вынести этот отзвук бесчисленных криков радости и боли, несущихся к нему из «необъятных пространств мировой ночи», и не устремиться неудержимо при звуках этого пастушьего напева метафизики к своей изначальной родине? [3:143; 21. 1,141]
Кто бы не согласился, прочитав подобный отрывок, стать одним из немногих счастливых «подлинных знатоков музыки»? Ницше смог написать эту страницу, только отождествляя себя в этом любовном треугольнике с королем Марком. Это место являет собой все очарование нечестного высказывания: параллельные риторические вопросы, изобилие клише, очевидное угождение аудитории. «Смертельная» сила музыки — это миф, который не способен противостоять смехотворности буквального описания, и все же риторический модус текста вынуждает Ницше представить эту силу во всей абсурдности ее фактичного существования. Повествование распадается на две части или, что то же самое, нуждается в двух несопоставимых повествователях. Повествователь, выступающий против субъективности лирики и против репрезентативного реализма, подрывает доверие к другому повествователю, для которого дионисическое прозрение — это трагическое восприятие изначальной истины.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Книги похожие на "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста"
Отзывы читателей о книге "Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста", комментарии и мнения людей о произведении.