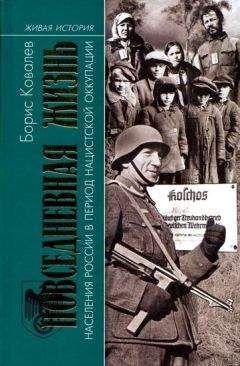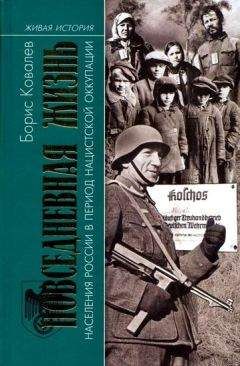Наталья Лебина - Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы."
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы." читать бесплатно онлайн.
Книга доктора исторических наук Н. Б. Лебиной — комплексное исследование быта эпохи НЭПа и довоенного сталинизма. Автор рассматривает советскую повседневность с позиций концепции девиантного поведения.
Книга рассчитана на специалистов — историков и социологов, студентов гуманитарных вузов, а также на всех, интересующихся проблемами становления ментальности «нового человека».
Перелом наступил на рубеже 30-х гг. Отправным нормализующим документом очередного «штурма небес» можно считать письмо ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы» от 24 января 1929 г. В нем, в частности, указывалось на необходимость прежде всего отстранить церковь от контроля над повседневной жизнью населения. Центральный комитет ВКП(б) подчеркивал: «Партийным комитетам и исполкомам необходимо поставить вопрос об использовании ЗАГСов в целях борьбы с поповщиной, церковными обрядами и пережитками старого быта…»[247]. Осенью 1929 г. в постановлении ЦК и ЦКК ВКП(б) «О задачах конфликтных комиссий ВЛКСМ» исполнение религиозных обрядов, наряду с участием в сектах, было отнесено к числу «болезненных антикоммунистических явлений», а по сути дела социальных патологий.
И вновь идеологическое наступление на религию сопровождалось вторжением в частную бытовую сферу жизни, нормы которой подвергались пересмотру. При этом превращение их в аномалию шло по сценарию начала 20-х гг., в частности, в форме замены религиозных праздников на революционные. Городские идеологические структуры, в первую очередь обкомы ВКП(б) и ВЛКСМ, летом 1929 г. инспирировали волну писем рабочих в ленинградские газеты с просьбой заменить праздник Преображения 6 августа на праздник Первого дня индустриализации. В этот день рабочим предлагалось выйти на работу, что носило форму антирелигиозного протеста[248]. Кампания прошла удачно. 7 августа 1929 г. в редакционной статье «Ленинградской правды» подчеркивалось: «День 6 августа был отмечен 100 % выходом на работу, и если раньше труд был «каиновой печатью», то теперь это «праздник миллионов»»[249].
В 1929–1930 гг. возобновились карнавалы и красочные шествия с антиклерикальной направленностью, нацеленные на отвлечение населения от посещения церквей в дни крупных религиозных праздников. Сохранилась информация о молодежном карнавале зимой 1929 г. в клубе завода «Электросила». Праздник, как предполагалось, должен был носить атеистическую направленность. Действительно, среди собравшихся встречались юноши в импровизированных одеждах священнослужителей. Однако после «безбожного» бал-маскарада многие с удовольствием отметили Рождество в семье[250]. В 1930 г. массовое шумное торжество, как зафиксировано в документах бюро ВЛКСМ «Красного путиловца», с целью «…отвлечь часть несознательной молодежи от походов в церковь на Пасху», прошло на этом крупнейшем ленинградском заводе[251]. Однако эффективность подобных антирелигиозных мероприятий, как и в начале 20-х гг., была невелика. Значительно более действенным с точки зрения инверсии нормы — почитания церковных праздников — в патологию оказался общий слом ритма повседневной жизни ленинградцев, начавшийся в 1929 г. в связи с реформой рабочей недели. По постановлению СНК СССР от 24 сентября 1929 г. вся страна в связи с принятым правительственным курсом на форсированную индустриализацию перешла на непрерывную пятидневку: пять дней рабочих, шестой — свободный. При этом дни отдыха не совпадали в разных организациях[252]. При увеличении выходных сократилось число праздничных дней. Религиозные же праздники исчезли из календаря вообще. Е. Скрябина, бывшая ленинградка, позднее эмигрантка, профессор славистики в Университете штата Айова, вспоминала: «Собираться вместе стало еще труднее. Обязательно кому-нибудь на другой день приходилось работать. Наши встречи свелись к государственным дням отдыха 1 мая, 7 ноября. Новый год (здесь мемуаристке изменяет память — 1 января стало нерабочим днем только в 1947 г. — Н. Л.). О Рождестве уже никто не говорил…»[253].
Введение непрерывки сказалось и на Пасхе, изначально связанной с семидневной неделей. При этом отмена 21 ноября 1931 г. постановлением СНК СССР скользящих выходных дней и объявление нерабочими 6, 12, 18, 24, 30 числа каждого месяца не нормализовала эту ситуацию[254]. Только в 1940 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была введена единая 48-часовая рабочая неделя с выходными днями в воскресенье[255]. Таким образом, нарушение традиционного трудового ритма, устоявшейся периодичности будней и праздников, связанное с пятилетками, повлекло за собой удаление религиозных торжеств из публичной жизни и сокращение числа людей, посещающих церкви. Свидетельством того могут быть данные своеобразного источника, относящегося к 1929–1930 гг. и именующегося «Автобиографиями безбожников»[256]. На вопрос о причинах отхода от совершения религиозных обрядов большинство респондентов отвечало: «Даже не успеваю отдохнуть, не говоря уже о церкви», «В церковь не хожу, так как восемь часов работаю, а остальное время провожу за работой дома. Свободного времени нет, праздника тоже нет, все время провожу дома. Церковь не посещаю, не имею времени…»[257].
Форсированная сталинская индустриализация предполагала и быстрое создание «индустриального менталитета», в формировании которого важную роль должна была сыграть промышленная дисциплина. Примерно то же происходило и в западных странах. Однако в советской России «человек индустриальный» должен был в первую очередь быть атеистом. Вероятно поэтому характерная для индустриальных процессов в целом фетишизация техники и механики сочеталась с гиперболизацией в жизни отдельного человека значимости производственной сферы. Ее нормы носили антиклерикальный характер, что отчетливо выразилось в деятельности «безбожных ударных бригад». Они появились в Ленинграде в 1929 г. на «Красном путиловце», Балтийском заводе, на фабрике Ст. Халтурина[258]. Это были трудовые коллективы, члены которых считали необходимыми являть собой не только пример высокопроизводительной работы, но и образцы новых норм жизни.
В число последних входило публичное декларирование своего неверия. Как правило, подавая заявление о вступлении в бригаду, рабочие писали: «Верил в бога до 1930», «Был верующим до 1929 г.» и т. п.[259] Подобная декларативная форма выражения мировоззренческой позиции свидетельствовала о поверхностности как прошлых религиозных, так и нынешних атеистических пристрастий. Члены «безбожных бригад» прежде всего демонстрировали свое отрицательное отношение к формам обыденной религиозности. Они возглавляли кампании по снятию икон в домах рабочих, как это было в 1930 г. на заводе «Красный путиловец»[260]. Многие ударники-безбожники жили во вновь появившихся на фоне свертывания НЭПа бытовых коммунах. Их деятельность носила сугубо политизированный характер. В коммунах на основе 100 %-ного обобществления домашнего быта предполагалось строить новый быт и новую жизнь, в которой не было места религии, особенно в ее обыденном контексте. В коммунах не могло быть икон — обязательных атрибутов обыденной веры. Регулируемый досуг не предусматривал празднования церковных праздников. Эти привычные для дореволюционной России и возрожденные в годы НЭПа нормы повседневной жизни считались здесь «немодными». Именно этим словом определяли свое отношение к религии многие респонденты уже упоминавшегося обследования 1929–1930 гг. Знаковым можно считать следующее выражение: «…это все старомодно и многие смеются в бараке над теми, кто исполняет обрядности на глазах других»[261].
Действительно, усилившаяся в период первой пятилетки тенденция внешней коллективизации быта ускорила формирующиеся в ментальности большой части городского населения представления об анормальности не только истинной веры, но и бытовой религиозности. Ее внешние проявления, в частности, украшение жилища иконами, усложнялись в условия коммуналки — самой распространенной формы жилища в Ленинграде в 30-е гг. Скрябина вспоминала, что ее мать, уже весьма пожилая женщина, считала необходимым повесить иконы не только в собственной комнате, но и в кухне квартиры, которую семья Скрябиных делила с несколькими соседями. Новый жилец, член ВКП(б), моментально заметил эти, как пишет Скрябина, «антикоммунистические мероприятия» и потребовал снять «картинки» и «не портить комнат общего пользования, т. е. кухню, ванную и коридор»[262]. В данном случае конфликт был разрешен относительно мирным путем. Значительно более драматично развивались события в том случае, когда священнослужители, как и многие другие ленинградцы, вынужденные жить в коммуналках, осмеливались вешать иконы. Это обычно истолковывалось как попытка совершения церковных служб в домашних условиях[263].
Возврат к карточной системе распределения продуктов также способствовал превращению традиционных практик обыденной религиозности в аномалию. Известный питерский историк А. Г. Маньков с удивительной прозорливостью обозначил это обстоятельство в своем юношеском дневнике. Запись сделана 16 апреля 1933 г.: «То, что большинство теперь не делает пасх и куличей, объясняется тем, что далеко не каждый в состоянии закупить творог, сахар и т. д., но это не значит, что в народе умерло стремление заменить хотя бы раз в год ежедневную порцию кислых щей с куском черного хлеба куском сладкого творога и порцией сдобного белого кулича. И здесь совершенно безразлично, какую форму примет это стремление, когда оно реализуется»[264]. Следует напомнить, что в 1929–1930 гг. самая высокая «особая категория» рабочих Ленинграда получала по карточкам 1 кг муки, 5 яиц и 200 грамм сливочного масла в месяц[265]. Конечно, в советской распределительной системе существовали люди, пользовавшиеся значительными привилегиями. Они могли позволить по старой привычке порадовать себя традиционными праздничными яствами. Е. А. Свиньина, старая петербурженка вдова царского генерала и члена Государственного Совета А. Д. Свиньина, с удивлением описывала в письме своим родственникам пасхальный стол в семье ассистентки академика И. П. Павлова, получавшей особый продуктовый паек. Избранных гостей потчевали «небывалой редкостью — окорочком, был бефстроганов из конины (вкусно и даже немного было сметаны) и пасха, довольно вкусная, редкость — дорогая. Потом кофе-суррогат с молоком (невкусно), сухарики домашние, а также куличик — сносные. Были апельсины в хрустальной вазе и корзина белой сирени от проф. Павлова, но это стояло для украшения стола и, равно как и три яйца крашеные (заплачено за каждое по 3 р. 50), конечно, этим можно было только любоваться»[266]. Подавляющая часть населения города не могла позволить себе ничего похожего. Праздновать же Пасху без традиционных яств могли лишь истинно верующие люди, которых в любом обществе немного. Однако и они начали испытывать значительные неудобства, связанные с исполнением религиозные обрядов. Это объяснялось сокращением количества действующих церквей в Ленинграде.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы."
Книги похожие на "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Лебина - Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы."
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы.", комментарии и мнения людей о произведении.