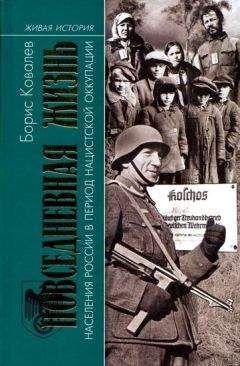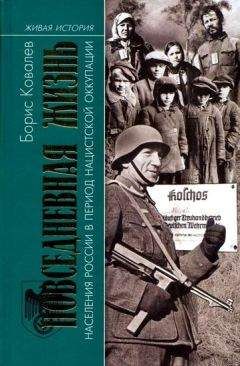Наталья Лебина - Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы."
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы." читать бесплатно онлайн.
Книга доктора исторических наук Н. Б. Лебиной — комплексное исследование быта эпохи НЭПа и довоенного сталинизма. Автор рассматривает советскую повседневность с позиций концепции девиантного поведения.
Книга рассчитана на специалистов — историков и социологов, студентов гуманитарных вузов, а также на всех, интересующихся проблемами становления ментальности «нового человека».
В. В. Маяковский в стихотворении «Наше воскресенье», перепечатанном в 1923–1924 г. рядом молодежных газет, прямо писал о том, что «шаги комсомольцев гремят о новой религии»[294].
В идеологических документах 30-х гг. церковные стилистические обороты встречаются реже. К этому времени «новая религия» стала господствующей и обрела собственный язык, во многом носящий культовый характер. Но неизменным осталось широкое использование коммунистами присущего любой религии явления катарсиса. Процесс «очищения духа» при помощи страха и сострадания нашел выражение в системе коммунистического мировоззрения в виде чисток и перерегистраций разного рода, а также практик публичных покаяний и отречений от «ошибочных взглядов», «идейно несоответствующих» родственников и друзей. Фактический материал, иллюстрирующий это положение, настолько велик и широко известен, что нет смысла приводить примеры.
По образу господствовавшей в обществе православной церкви, коммунистическая идеология пронизывала все сферы жизни общества, и, конечно, она не могла не оказывать влияния на процесс сложения моральных норм. При этом первой и основной задачей была борьба против традиционных общечеловеческих и христианских нравственных принципов. Наилучшей почвой для этого эксперимента была, конечно, молодежь. Не удивительно, что уже в 1920 г., обращаясь к подрастающему поколению, Ленин настоятельно рекомендовал не выводить мораль из велений бога, нравственного долга или каких-либо других «идеалистических и полуидеалистических фраз, которые всегда сводятся тоже к тому, что очень похоже на веление бога»[295]. Однако коммунистические моральные нормы, по мнению Ленина, тоже имели незыблемую основу — теорию классовой борьбы.
Эту ленинскую мысль развивали в 20-е гг. многие партийные теоретики. Но в наиболее концентрированном выражении она присутствовала у А. Б. Залкинда. Формулируя нормы коммунистической морали, он использовал прямые заимствования из религиозной сферы. Залкинд считал, что десять христианских заповедей — своеобразный теистический моральный кодекс — вполне подходят для этических нужд социалистического государства, необходимо лишь изменить их классовую направленность[296].
Религиозный характер нового мировоззрения нашел яркое проявление и в том, что функции этического диктата, принадлежавшие до революции церкви, перешли в руки идеологических структур, и прежде всего коммунистической партии и комсомола. Следует отметить, что значительная часть населения страны в силу патриархальности мировоззрения отождествляла идеалы христианства и коммунизма. Они выдвигали нормализующие суждения, предлагаемые населению как противоположность общечеловеческим нормам морали. В 30-е гг. этот процесс активно нарастал. Молодежные журналы пестрели статьями, громящими литераторов, слишком либерально относившихся к «сомнительным общечеловеческим чувствам»[297]. Бойкие журналисты от комсомола совершенно серьезно утверждали: «За последнее время мы порядком почистили список положительных моральных качеств человека. Мы выбросили такие понятия, как рыцарство, религиозность, сентиментальность, угодничество, послушание, миролюбие. Мы недолюбливаем безобидные понятия: застенчивость, робость, кротость, а ведь недавно это были понятия высокой моральной пробы». Новый человек должен был обладать такими качествами, как дисциплина, отвага, мужество, сила, упорство, настойчивость, уверенность, бодрость[298]. Но главное, он должен был уметь ненавидеть.
Во второй половине 30-х гг. на фоне раздуваемой истерии перманентно усиливающейся классовой борьбы «Комсомольская правда» стала систематически публиковать статьи, посвященные моральным нормам. В редакционном материале «Гуманность нашей молодежи» 20 сентября 1935 г. газета утверждала: «Партия учит нашу молодежь не только любить, но и ненавидеть»[299]. В 1936 г. на X съезде ВЛКСМ задача воспитания новой морали была внесена в программу комсомола, где подчеркивалось, что «всей своей работой ВЛКСМ воспитывает… людей, ненавидящих врагов рабочего класса»[300]. В 1938 г. непосредственно после процесса над известными лидерами ВКП(б) «Комсомольская правда» вновь сочла необходимым в редакционной статье напомнить о том, что «любовь к человеку должна сочетаться с ненавистью к врагу… а выкорчевывание и истребление всех врагов народа и всего прогрессивного человечества являются важнейшим принципом пролетарской морали и социалистического гуманизма»[301].
В разряд морально-нравственных норм и добродетелей, таким образом, возводилось чувство классовой ненависти. Именно на этом чувстве произрастал социалистический фанатизм — свойство, присущее людям, тяготеющим к мировоззренческим системам религиозного толка, разновидностью которых и стал в 20–30-х гг. марксизм-ленинизм. В ментальности населения, особенно молодого поколения, формировалось представление о счастье как о результате мученичества, самоотречения во имя идей коммунизма и всеобщего блага, на фоне которого жизнь отдельного человека не имеет ни высокой цены, ни значительного смысла.
В 20-е гг. социалистический фанатизм был присущ сравнительно небольшой части населения — в большинстве случаев молодым партийным и комсомольским активистам, уже приобщенным к «новой религии». Это отчетливо видно из сопоставления двух дневников, принадлежавших молодым людям. Один из них, полностью опубликованный в книге педагога и психолога 20-х гг. М. М. Рубинштейна, принадлежит девушке. Записи производились в 1923–1924 гг., когда автору было 15–17 лет. К сожалению, рукописный подлинник не сохранился. И все же ценность этого материала неоспорима, тем более, что имеется возможность его сравнения с дневником, обнаруженном в фонде Центрального Государственного архива историко-политических документов и принадлежащем одному из питерских комсомольских активистов М. Тужилкину. Сопоставление двух дневников позволяет сделать вывод о существенной разнице нормативных суждений рядовых людей и политических функционеров даже не очень высокого ранга. Девушка придает огромное значение собственным личным переживаниям, через призму которых она рассматривает все явления жизни, даже общественно-политические события. Тужилкин же не уделяет личным вопросам вообще никакого внимания. В определенном смысле здесь сказываются и типичные различия дневниковых записей юношей и девушек[302]. И все же принадлежность к комсомолу как нормализующей организации, восприятие действительности в контексте коммунистических идей явно отразились на ментальных нормах молодого человека, в частности, на его представлении о счастье. В девичьем дневнике встречаются фразы о «чудной цели жизни — приносить пользу человечеству», что характерно и для юношеского философствования, тем не менее пути достижения этой цели не определены[303]. Совершенно иную картину представляет дневник комсомольского активиста. Для Тужилкина счастье — это прежде всего борьба, а именно ликвидация Кронштадтского мятежа. Описывая свое состояние, автор дневника подчеркивает: «А подъем какой! Но не ломкий, горячечный. А уверенное воодушевление, дающее ребятам на предприятиях столько энергии»[304]. Твердое понятие о счастье как о социальном противостоянии — эта норма могла быть свойственна лишь людям, верящим в некие идеи.
Коммунизм в его упрощенном виде воспринимался как вознаграждение за лишения, как обещание счастья через мученичество, что характерно для религиозного уровня сознания[305]. Это запечатлелось в источниках личного происхождения, относящихся к периоду перехода от военного коммунизма к НЭПу. Идея смерти за светлое будущее преподносится как моральная норма Правда, это характерно пока для коммунистов и комсомольцев. В коллективных письмах комсомольских организаций можно нередко встретить такие слова: «Мы клянемся, что отдадим свои силы на алтарь революции, смело заявляем, что молодая гвардия на трудовом фронте погибнет, но не отступит ни шагу»[306]. Текст относится к осени 1922 г. Элементы социалистического фанатизма проникали и в индивидуальное сознание. Свидетельством того может служить письмо учащегося ФЗУ, присланное Ленину в начале 1923 г.: «Я обещаю Вам отдать жизнь, свои дни святой борьбе за слабых. Я учусь для того, чтобы во всеоружии идти на эту борьбу… Красная рабочая молодежь… не пожалеет сил и скорее погибнет вся, чем допустит гнет капитала»[307].
Особенно активно властные и идеологические структуры стали навязывать населению в качестве нормы представление о счастье как о жертвовании в конце 20-х гг. при переходе к форсированной индустриализации и насильственной коллективизации. Энтузиазм 30-х гг. был скорее результатом слепой веры в социализм, чем понимания его смысла, Увеличение прослойки фанатически верящих в социализм людей в 30-е гг. объяснялось разрастанием в городской среде выходцев из крестьян, массовое сознание которых отличалось более высоким уровнем религиозности. В 1935 г. «Комсомольская правда» предложила ответить на вопрос «Мой самый счастливый день» большой группе молодых рабочих, среди которых было много ленинградцев. Более трети опрашиваемых представляли себе счастье как труд на благо социализма и как активную политическую жизнь. Именно так, скорее всего, можно истолковать ответы: «Самый счастливый день — вступление в ВЛКСМ, встреча со знатными людьми, избрание в райсовет, пуск завода». Большинство же молодых людей были ориентированы на достаточно привычные для человека формы счастья — «приобретение велосипеда», «рождение сына», «женитьба»[308]. Эти простые людские радости хотя и не клеймились властными и идеологическими структурами в 30-е гг. как некая нравственная аномалия, но подавались как результат усилий и заслуг социалистической системы. Газета писала «Покупка костюма за 180 рублей рабочим человеком возможна лишь в советской стране»[309]. Более нормальным казались такие представления о счастье, как «участие в стахановском движении» и «разоблачение классового врага». Об этом свидетельствовали данные газетного опроса, проведенного через год — в январе 1936 г.[310]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы."
Книги похожие на "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Лебина - Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы."
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы.", комментарии и мнения людей о произведении.