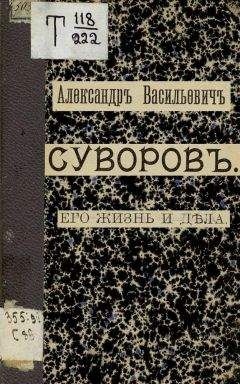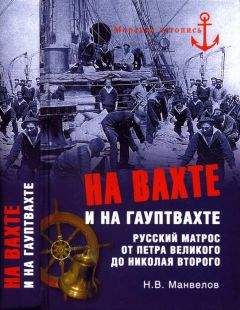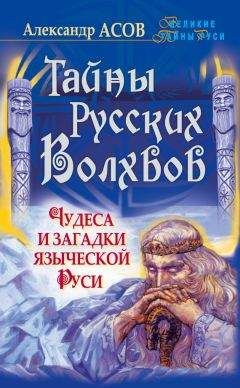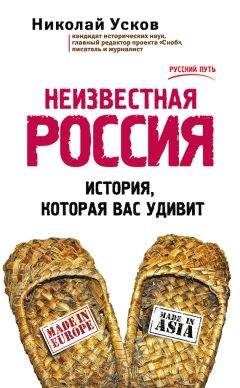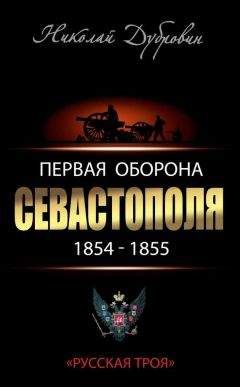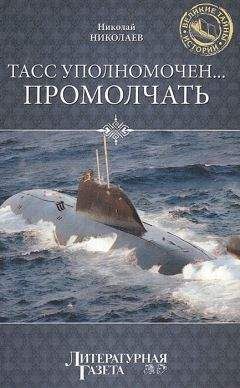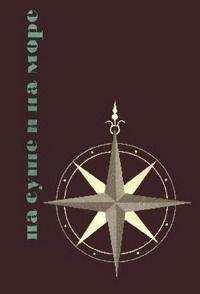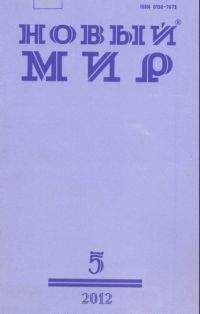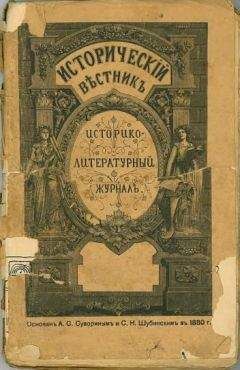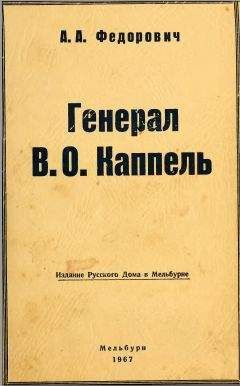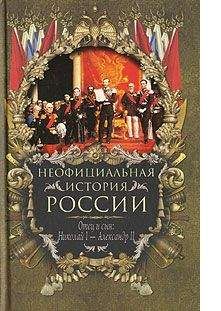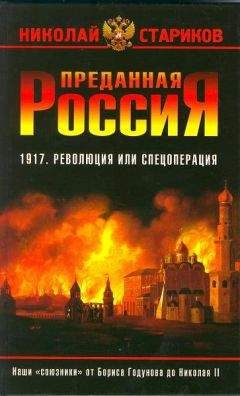Николай Дубровин - Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник""
Описание и краткое содержание "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"" читать бесплатно онлайн.
До преобразования духовных училищ в 1808 году, все предметы, не исключая и русской словесности, преподавались на латинском языке. От этого многие ученики отличались только знанием этого языка и искусством писать латинские стихи. «Для достижения и поддержания сей славы, — говорит митрополит Филарет [143], — ученики особенные усилия и большую часть времени употребляли на изучение латинских ораторов в стихотворцев. От сего происходили священники, которые довольно знали латинских и языческих писателей, но мало знали писателей священных и церковных; лучше могли говорить и писать на латинском языке, нежели на русском; имели память обремененную множеством слов, но ум не оплодотворенный живым познанием истины».
Богословие преподавалось исключительно на латинском языке, и руководством служила книга преосвященного Феофилакта, составлявшая не более как выдержки из лютеранского богословия Буддея. Пристрастие к латинизму имело дурное влияние уже по тому, говорит Филарет, что латинский язык по первоначальному своему образованию есть язык народа языческого, по теперешнему употреблению — язык церкви западной, а языком церкви восточной никогда не был и быть причины не имеет. Логику преподавали по Бакмейстеру, риторику — по Бургию, а математику, историю и географию считали предметами неважными и для преподавания их не находили достаточно знающих учителей. В последних был огромный недостаток. В Коломенской семинарии, где учился митрополит Филарет, было три учителя: один доморощенный, другой окончивший курс в С.-Петербургской духовной академии и третий — в Троицкой семинарии, и из всех трех доморощенный оказался лучшим. В 1800 году в Лаврской Московской ceминарии, куда перешел Филарет, философию учил молодой иеромонах Мельхиседек Минервин, который сам был не тверд в этой науке. Вообще философия понималась очень трудно, но идеи западных философов и энциклопедистов проникли и в духовные училища. Основанием философии было учение об идее бесконечного, как основном пункте нашей духовно-нравственной деятельности. Это учение излагалось словами Поарета, в системе которого веял мистический дух. Семинаристы увлекались системою «дружною с откровением и говорящею сердцу и воображению» [144]. В богословии говорилось только о книгах священного писания, да и то Ветхого Завета. Общие наши с протестантами трактаты, например о св. Троице, об искуплении и т. п., проходились порядочно, а другие, например о церкви, совсем не были читаны [145]. Богословские понятия, излагаемые на латинском языке, скованные слишком тяжелою школьною терминологиею, трудно понимались учениками, а по выходе из семинарии с трудом перелагались на русский язык, для сообщения их народу. Вся семинарская ученость заключалась преимущественно в ораторстве. Студентов учили писать стихи, и если являлись поэтические дарования, то они заглушались прозою семинарской жизни, нуждами и лишениями всякого рода и, наконец, долблением, не дающим пищи ни чувству, ни воображению. Полное же незнакомство с первоклассными нашими поэтами, читать которых запрещалось, как нечто вредное и безнравственное, было причиной, что из воспитанников семинарии не являлось поэтов, и стихи писались только по заказу.
Вместо испытаний и поверки знаний в науках устраивались так называемые диспуты, при которых ученики разделялись на две стороны: с какою твердостью один защищал истину, с такою же дерзостью другой усиливался доказать ложь; ловкое возражение было одобряемо не меньше, если не больше основательного опровержения. «Отсюда — склонность к спорам часто соблазнительным и никогда не полезным для наставления народа, потому что и возражение и решение их большею частью в школе выдуманы, в школьном виде представлены и не входят в круг понятий, обращающихся в народе».
Вообще положительных знаний выносилось очень немного. «Конечно, догматы веры я знал, — говорит П.С.Казанский [146], — мог разссуждать о них, но историю церкви христианской знал мало. Философия почти вся улетела из головы. По-латыни мог писать и читать без затруднения. По-гречески познакомился с грамматиками Бюрнуфа и Попова. По-немецки мог читать книги, но только при помощи лексикона. Мысль моя была довольно развита. Чтение аскетических сочинений и духовных книг, изданных в России во втором и третьем десятилетии нынешнего века, дало отчасти мистическое направление моим мыслям. Но знания людей, знания жизни я не имел никакого. Что было бы со мною, если б я поступил в священники в село? He могу и представить, что бы было при встрече с действительностью. В продолжение всего учения о пастырских обязанностях y нас не было и речи».
Воспитанный в латинской схоластике, с знаниями сухими и холодными, с недостатками одушевления и совершенно незнакомый с жизнью, семинарист делался священником и попадал в обстановку, далеко не привлекательную. Сын бедных родителей, а иногда и сирота, ничего не имеющий, сделавшись священником, обязан был купить дом своего предшественника и следовательно с первого шага войти в долги. В большинстве случаев он сам должен был обработывать землю, сам хлопотать около дома, сам припасать все необходимое для жизни; брать же в руки священные книги ему не было времени, да и купить их было не на что, денег не хватало на самые насущные потребности. Многие священники вместо сапогов носили лапти и в них служили в церкви. Отправляя своего сына в Петербург, отец Г.П.Павского сшил ему сюртук из единственной своей рясы, а сам остался ходить в одном подряснике [147]. Отец Фотия заработывал деньги тем, что рубил и возил лес на крестьян. Но заработок этот был ничтожен, и в июле, перед жатвою, в доме вовсе не было хлеба. Фотий собирал огородную траву, посыпал ее солью и тем насыщал себя.
Такая бедность заставляла духовенство входить в дела непристойные и пользоваться руками прихожан в пособие к возделыванию земли. Это пользование, по тогдашним понятиям, было сопряжено с грехом и нарушением правил религии, ибо крестьяне соглашались помогать священнику не иначе, как в праздничные дни. Завися вполне от прихожан и их ничтожной платы за исполнение треб [148], сельский священник по необходимости должен был приобретать их расположение, применяться к их обычаям, вкусам и даже пьянствовать вместе с ними. «Крестьяне, говорит современник [149], идут прямо с паперти в кабак, против храма Божиего, от которого отделялся только проезжею дорогой. Туда же, управившись в церкви, спешат священнослужители. Последние, говоря правду, держали себя несообразно с достоинством духовного сана... Сколько раз, возвращаясь с полевой прогулки, мы находили отца Селивана лежащим на церковном погосте в беспамятстве, с раскинутыми врозь руками?»
Пьянство было господствующим пороком духовенства, доходившего в этом отношении до полной неблагопристойности [150]. Фотий старался удержать своего отца от этого порока, но за это был бит по щекам местным священником. Последний был собутыльником отца Фотия и вместе с ним пьянствовал; понятно, что вмешательство Фотия было неприятно попу.
«Дня через три, либо менее, — писал Филарет деду [151], — сойду я на другую квартиру, именно к дворнику Рождественского попа, к такому же пьянице, как и сам поп... Выдан указ (Синода) [152], чтобы кутейники не хватались за вино, а знали бы кутью».
Но указ не помогал, в священники продолжали пьянствовать, драться с прихожанами у кабаков и на базаре, и тиранствовать в семье. Достаточно прочитать записки Д.И.Ростиславова, чтобы убедиться в справедливости сказанного [153].
С каждым днем по выходе из семинарии, священник все более и более дичал, грубел, забывал о своих обязанностях, терял уважение к церкви и религии, и смотрел на свой сан, как на ремесло известной касты или цеха. В Уфе был священник Ласточкин, который во время Причастия громко сказал одной даме: «Что ты боишься что-ли рот-то открыть? Ну, куда я тебе лжицу просуну?»
Сконфуженная молодая дама открыла рот со всем усердием.
— Смотри пожалуй, проговорил тогда священник: она никак уж и меня с сосудом проглотить хочет [154].
Сохранилось много свидетельств об унижении церкви самим духовенством, и мы приведем одно из них. В селе Белоомуте, отстоявшем не более, как в 150 верстах от Москвы, в десятых годах настоящего столетия дьякон Евфимий Денисов в стихаре шумел, прыгал и делал такие «наглости», которые свойственны только сумасшедшим. Неоднократно выбегал он из алтаря и в присутствии прихожан, оставшихся служить панихиду, произносил ругательные слова. Случалось, что во время службы, дети запирались в алтаре, бегали вокруг престола, шумели и кричали. Причетники на горнем месте, сидя на стуле, часто стригли волосы, вытирали руки ризами, вызывали друг друга на кулачный бой, облокачивались на жертвенник и проч. «И посему, сказано в конце донесения [155], церковь наша толико уничижена, толико поругана, толико обесславлена студными их делами. что весьма прилично сказать о ней словеса Господни: «дом мой — дом молитвы наречется, вы же сотвористе его вертеп разбойникам». И святый алтарь y них не что иное, как торжище, где происходят беспрестанные счеты, поверки, крики и ругательства, что весьма обезображивает сие святое место я делает презренным для самих прихожан».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник""
Книги похожие на "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Дубровин - Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник""
Отзывы читателей о книге "Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник"", комментарии и мнения людей о произведении.