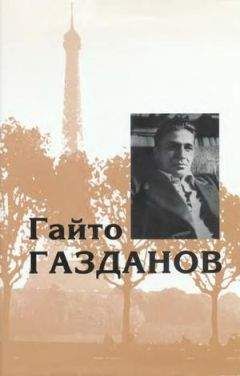Михаил Салтыков-Щедрин - Том 5. Критика и публицистика 1856-1864

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 5. Критика и публицистика 1856-1864"
Описание и краткое содержание "Том 5. Критика и публицистика 1856-1864" читать бесплатно онлайн.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В пятый том настоящего издания входят критика и публицистика Салтыкова 1856–1864 годов, кроме отнесенных в следующий, шестой том «хроник» из цикла «Наша общественная жизнь», примыкающих к этому циклу статей «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне», а также материалов журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».
Средство это, несмотря на всю свою незатейливость, весьма ловкое и притом совершенно национальное. Мы, русские, столько веков на разные манеры твердили, что
Законы святы,
Да исполнители лихие супостаты…
мы до такой степени убедились в справедливости этого изречения горькою практикой, что оно сделалось как бы непременным спутником нашей жизни, чем-то таким, без чего существование наше было бы не полно. Возьмите, например, павлоградский случай: пал «умный и гуманный уездный предводитель» — и «тотчас же явились суд, правда и мир» (ирония это или не ирония — пускай судит сам г. Герсеванов). Прочитайте речь Андрея Петровича Письменного в изложении г. Герсеванова, вы увидите из нее, во-первых, что он «надеется, что павлоградские мировые съезды будут поистине мировыми» (мы, с своей стороны, надеемся, что они вместе с тем не перестанут быть и павлоградскими); во-вторых, он обращается к «благороднейшим дворянам» и говорит им: «В вас, благороднейшие дворяне, я должен иметь силу и значение для действия к общему благу». Одним словом, на первом плане стоит Андрей Петрович и «благороднейшие дворяне»: они будут давать Андрею Петровичу силу, и он станет действовать. О положениях 19 февраля Андрей Петрович совсем забыл, и это тем страннее, что в них-то именно, и в них одних, он, как председатель мирового съезда, должен был бы искать и опоры и силы. Любопытно было бы знать, во имя чего действовали павлоградские мировые учреждения при «умном и гуманном уездном предводителе»? Или тогда были всё только супостаты?
Орудиями для отбивания охоты от службы неприятному делу являются обыкновенно те самые Ш — ны, Н — ны, М — ры и Ю — вы, о которых говорит «Сердобский обыватель», а также Александры Б. и Николаи З., о которых повествует г. «Не тронь менѐ». Личное их вмешательство в действия мировых посредников, по-видимому, совершенно лишнее; по-видимому, они, наравне с прочими, могут найти для себя убежище и в законе, и в праве жалобы, и, наконец, в праве публичного оглашения неправильных действий: во всем этом никому и нигде не отказывается; но Ш — ны, Н — ны, М — ры и Ю — вы рассуждают не так; они думают: куда там еще с законами, да с апелляциями, да с оглашениями! закон в нас самих! И вследствие такого рассуждения призывают к себе на помощь помещика из «отставных военных», который, по мнению их, заключает в себе и суд и расправу и который действительно «предлагает г. Кр — скому удовлетворение», то есть вызывает его на дуэль. И тут начинается целый ряд насилий, насилий смешных и невинных, но тем не менее в целом представляющихся невыносимыми. Произносятся остроумные речи, вроде того, что «офицер, боящийся выстрела, не может служить в рядах храбрых», начинаются кивания, мычания, визжания, предлагаются любезные вызовы на дуэль; одним словом, вчинается безобразнейший procès de tendance, в котором общественный обвинитель, вместо того чтобы формулировать обвинение, высовывает язык и делает угрозу носом. И никак не надо думать, чтобы полтавская драка была первою попыткой насилия над мировыми посредниками, первою попыткой подействовать на мировые учреждения посредством устрашения. В этом нас усерднейше разуверяют г. Герсеванов и сердобский обыватель, хотя они, по-видимому, и не подозревают, что воспеваемые ими подвиги павлоградских и сердобских обывателей принадлежат к разряду подвигов, именуемых насильственными. Конечно, полтавское происшествие составляет в своем роде перл, но и сердобские судоговорения не дурны. Сердобские дворяне требуют, чтоб гг. Оз — н и Кр — ский вышли в отставку, но где же они почерпали себе право выразить такое требование? Ведь Оз — н и Кр — ский даже не ими и выбраны! Помещик из отставных военных вызывает г. Кр — ского на дуэль… с какого повода, за что, зачем? Неужели это не насилие? Неужели тут есть какой-нибудь другой смысл, кроме смысла простого грубого гнета?
Итак, первая причина, обусловливающая возможность проявления всякого рода насилий против людей мирового института, заключается в существовании тайной силы, им покровительствующей и подрывающей силу открытую, законную.
Вторая причина легкой возможности проявления насилий лежит гораздо глубже и заключается, по нашему мнению, в совершенном отсутствии твердой почвы, на которую могли бы опираться мировые посредники. Конечно, самый закон, самое положение уже представляет опору, но выше мы сказали, что защита, которую можно бы искать в законе, постоянно парализируется какими-то скрытными, но тем не менее совсем не вымышленными влияниями, какими-то закулисными колебаниями, которым нельзя даже прибрать приличного названия. Остается, следовательно, искать опоры инде, то есть там же, где ищет ее насилие. Вдохновенная газета «Голос» советует искать этой опоры в мнениях «благоразумного большинства», но гг. Оз-н и Кр-ский отвечают на это, что это мнение совсем не большинства, а «семейное мнение, образовавшееся в известных кружках». По-нашему, гг. Оз-н и Кр-ский правы; они очень хорошо понимают, что в таком деле, которое представляет собой беспрерывный гражданский иск, должно принимать в расчет не одну, а обе стороны; они понимают, что мнение — собственно, составляется и высказывается здесь только одною стороной, а какое мнение имеет другая сторона — о том не только никто не интересуется знать, но даже никто и не говорит: точно его совсем нет и быть не может. Если бы оно имело возможность высказываться с тою же ясностью, с какою высказывается мнение сердобских и павлоградских обывателей, то, быть может, и оказалось бы возможным найти в нем опору и противопоставить его домогательствам противной стороны. Однако этого нет, и мировые посредники, волею-неволею, должны оставаться безмолвными даже против таких простодушных обвинений, как «хирург, падающий в обморок при виде крови, не может делать операций». Они не могут даже сказать, что обязанность их заключается не в том, чтобы защищать семейные интересы, а в том, чтобы служить общему делу всей русской земли: за такую продерзость их назовут нигилистами — и дело с концом.
Положение мировых посредников у нас и трудное, и новое. Мы привыкли всякого человека к чему-нибудь приурочивать: либо к сословию, либо к званию. Хоть коллежского регистратора, хоть отставного истопника, а нацепим-таки ему на шею; без этого нам как-то странно даже относиться к человеку, смешно на него смотреть. И вдруг являются люди, которые претендуют действовать во имя общих интересов земства, а не во имя миллионных частиц его, не во имя коллежских асессоров, не во имя отставных истопников. Сверх того, эти люди и не чиновники (чиновников-то мы поняли бы), потому что деятельность их чисто специальная, внутренно-устроительная и отнюдь не касается ни интересов казны, ни даже интересов общественного спокойствия, в том тесном смысле, в каком мы доселе эти интересы понимали. Там, где эти интересы выступают на сцену, посредники стушевываются и уступают место полиции. Понятно, что такое положение должно было перемешать все наши представления, понятно, что мы начали везде обонять измену, везде видеть «офицеров, не могущих служить в рядах храбрых». Но понятно также, как невыносимо должно быть такое положение для тех, которые в него поставлены, и как прав был г. сердобский уездный предводитель дворянства, утверждая, что личность мировых посредников не безопасна.
Вывести из этого положения мировых посредников крайне необходимо, и притом совсем не так трудно, как это представляется с первого взгляда. Для этого следует только пересмотреть «правила о лицах, имеющих право быть избранными в мировые посредники», равно как и самый порядок избрания, существующий ныне, но, разумеется, пересмотреть их в тех видах, чтобы новым законом создать для мировых учреждений твердую нравственную опору, помимо той формальной опоры, которую предлагает сам закон. Это тем легче сделать, что самые правила, о которых мы говорим, суть правила временные, допущенные в виде опыта на три года[91].
Лицо, служащее мировому институту, в нынешней ли ограниченной его сфере или в сфере более обширной, какая для него ожидается в будущем, во всяком случае не может быть ни чиновником, ни представителем семейных интересов; оно должно быть живым словом земства. Но это тогда только возможно, когда оно будет обязано своим появлением на поприще общественной деятельности избранию, и притом когда избирательной системе даны будут самые широкие основания. Тогда только избранное лицо будет пользоваться действительным доверием, и тогда только оно получит для действий своих не мнимую, но положительную опору. Здесь уместно было бы нам коснуться вопроса о цензе, которым в прошлом году так усердно занималась наша журналистика, но об этом мы предпочитаем поговорить особо; теперь же мы исполняем только ту часть нашей задачи, которая заключается в исследовании действительных причин странного и исключительного положения мировых посредников в той среде, где им суждено действовать. Ясно, что опоры для них нет нигде; ясно, что они имеют дело только с антагонистами реформы и что, при таких условиях, торжество последних не только легко объясняется, но даже было бы странно, если б оно не проявлялось со всею наглостью и со всеми прибаутками, свойственными национальным нравам…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 5. Критика и публицистика 1856-1864"
Книги похожие на "Том 5. Критика и публицистика 1856-1864" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Салтыков-Щедрин - Том 5. Критика и публицистика 1856-1864"
Отзывы читателей о книге "Том 5. Критика и публицистика 1856-1864", комментарии и мнения людей о произведении.