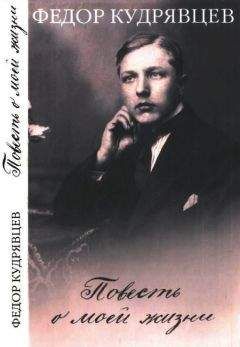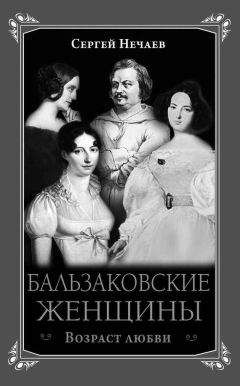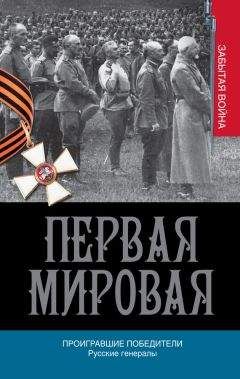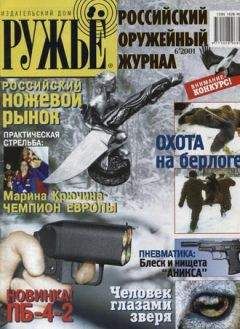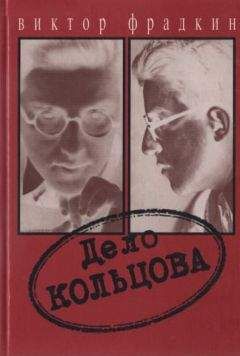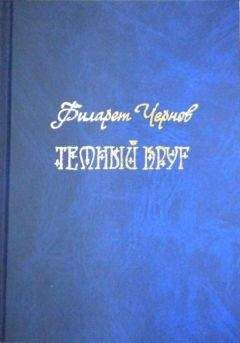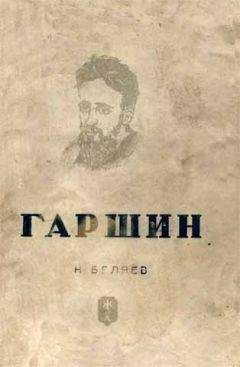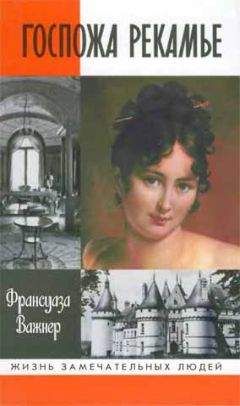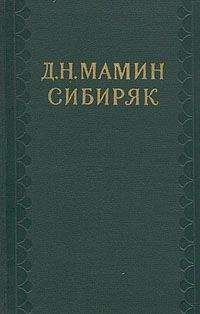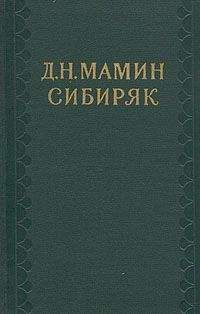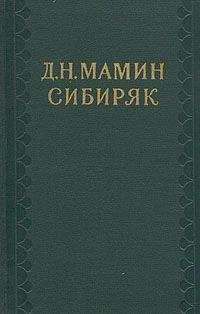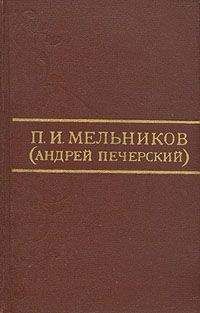Владимир Глотов - «Огонек»-nostalgia: проигравшие победители
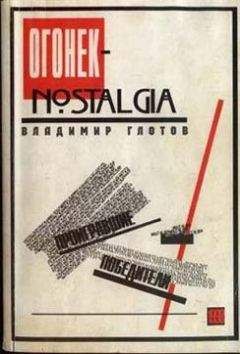
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Огонек»-nostalgia: проигравшие победители"
Описание и краткое содержание "«Огонек»-nostalgia: проигравшие победители" читать бесплатно онлайн.
Журнал «Огонек» в конце восьмидесятых, на изломе эпохи, читала едва ли не вся страна.
И вдруг, после небывалого взлета, — падение с головокружительной высоты. До ничтожного тиража. До раздражающей, обидной эмоции. Почему? Орган демократии не оправдал надежд? Демократия обанкротилась? Читатель озаботился иным интересом?
Так или иначе, свой столетний юбилей журнал отмечает не в лучшей форме. Поэтому не лишне задуматься: кем же он был, журнал «Огонек» — шутом, которому позволяли говорить правду, пророком, блудницей?
Отсюда и «Огонек»-nostalgia. Однако книга не только о некогда сверхпопулярной редакции
В тот раз я собрал материал об Алексее Федоровиче Куликове. Начальник участка на Тэцстрое, пожилой грузный мужчина — Куликов сидел в своем кабинете, выглядел скучно, обыденно. Туда-сюда шныряли посетители.
В ту пору мне казалось, что надо обязательно придумать какой-нибудь ход, сюжетец. Мы состязались в оригинальности подачи материала, и «Металлургстрой», если полистать подшивку за те годы, вполне может послужить подспорьем для тех, кто помышляет о литературной профессии. Там собрано все наше экспериментаторство.
Этими «ходами» и «поворотами» были озабочены не мы одни. Когда, спустя время, я пришел в «Комсомольскую правду», инкубатор столичной журналистской элиты, там занимались тем же. И только один-единственный журналист, Александр Егоров, царство ему небесное, поразил меня ответом, когда я, зная что он вернулся из командировки и работает над очередным материалом, спросил его: «Какой у тебя „ход“, Саша?» — ответил: «Да никакого».
И я вдруг прозрел. Вот это и есть высший пилотаж.
А в начале журналистской судьбы я считал, что надо обязательно украсить жизнь каким-то вымышленным зигзагом. И чем он будет замысловатее, тем приятнее читателю.
Поэтому я придумал «посетителя», который заходит будто бы к Куликову — разбитной крановщик — и просит перевести его в монтажники. Там веселее, побольше заработки. А Куликов не отпускает. Паренек кипятится, требует, произносит фразу: «Имею право!» И тут Куликов в ответ задумчиво, как бы про себя: «Да где ты добыл его, это право?»
Собственно, с этого момента и начинается рассказ о Куликове. Взгляд паренька натолкнулся на изуродованную руку начальника участка. Куликов погружается в раздумье и вспоминает свою жизнь.
Все это было мне нужно лишь для того, чтобы поведать о судьбе моего героя. Я считал, что просто так рассказать о нем нельзя — это банально, обыденно. Я должен был как-то оправдать этот рассказ — так нам казалось: надо обязательно «оправдать» наше журналистское вмешательство в чужую жизнь.
Так или иначе, но в итоге я действительно поведал — хотя и в такой нелепой форме — о деревенском парнишке, прибывшем в тридцатые годы на стройку «Кизилгрэс». При этом у меня не хватило любознательности спросить Куликова — а что за стройка? Где она была? Что строили-то? Но зато добросовестно выведал, как они жили, как одни вылизывали за другими миски и как Куликову, вечно голодному парню, советовали подсаживаться поближе к семейным, так как те чуть более сыты, чем остальные, и иногда не доедают свою порцию.
И конечно, в красках описал драматический случай — кульминацию очерка, как у Куликова, уже молодого бригадира, придавило тросом от лебедки руку во время подъема, который, конечно, молодой герой не прекратил. По мысли автора, вот там, в тридцатые, добывалось «право» — мой вымышленный крановщик, казалось мне, достаточно унижен моим рассказом, но я садистски добивал его. По моей воле Куликов должен был написать на заявлении парня: «Перевести подсобником», — причем в самую плохую бригаду. И вот растерянный человек смотрел в лицо своего начальника и испытывал вполне естественные для такого момента чувства, но в очерке, по моей прихоти, он смотрел в глаза того Алеши, из тех тридцатых годов, закрытых дымкой романтики, и страдал от охвативших его чувств, как бы все сразу поняв.
Завершался очерк просто, по-мужски. Куликов, видя смущение парня, выходил у меня из-за стола, брал из рук паренька его заявление и, скомкав его в кулаке, сжимал кулак до хруста. Я так и написал: «До хруста». До боли в пальцах. Таков был символ позора поколения детей. А благородные отцы? Куликов сказал рабочему просто: «Иди на кран».
Самое поразительное, что я не слишком приврал. Было, хоть отбавляй, охотников попасть в монтажные бригады — привлекал заработок. Такие заявления ложились на стол Куликова в большом количестве. И личная история не была выдумана. Тридцатые мне, и правда, представлялись временем достойным, «Архипелаг» Солженицына еще не был написан. Что же касается наивного антуража — таково было всеобщее увлечение.
Иногда я ввергал своих героев в настоящие приключения. Не умея разобраться в обыденной жизни, мы старались, как могли, украсить ее. В горах Кавказа, например, я уговорил начальника автобазы дать мне шофера с грузовиком, чтобы совершить рейс из Тбилиси в Кутаиси, — надо было подготовить для столичной газеты очерк о типичном грузинском комсомольце. Такого выделили — он подходил по всем статьям, был передовиком, национальным кадром. Никаких предосудительных поступков. Полная гарантия, что и в Грузии, и в Москве будут довольны. Но когда на пыльном дворе гаража резко затормозил новенький «Зил» и из кабины выпрыгнул толстячок лет под тридцать с лысой, как колено, головой, я чуть не упал. Какой же он комсомолец? Как такое лицо может появиться на странице журнала «Смена»? Но другого не предлагали — только этого! И мы поехали. И все было замечательно. И даже завернули к дедушке с бабушкой в горную деревеньку по пути, напились чачи, отоспались, потом снова пили и пели песни с половиной села, собравшейся в доме. А утром я снимал его на фоне грузовика. Снимал, закамуфлировав лысину бабушкиным вязаньем — получился лихой джигит с немыслимой конструкцией на голове.
Однажды мы уговорили машиниста грузового состава взять с собою в рейс своего юного племянника — нам надо было показать, как младшее поколение страстно желает следовать по стопам своих старших братьев. Конечно, и мы поехали в организованный нами рейс. Фотокор Петрухин отщелкал пленку, я за дорогу выспросил все, что мог, пытая угрюмого машиниста. Парнишка смотрел вперед и повторял по нашей просьбе: «Вижу зеленый!» — все, как положено по инструкции. Но нам показалось этого мало и мы попросили сбросить нас в живописном месте на границе Европы с Азией. Машинист оторопел, но согласился. Притормозил, и мы, не дожидаясь полной остановки, спрыгнули на насыпь — Петрухин со своей швейцарской камерой. Состав, вильнув змеиными сочленениями цистерн, ушел в сторону Златоуста, а мы остались в тишине, среди лета в Уральских горах. Как дети мы бегали с Сергеем, скакали, как горные козлы, по каменистым осыпям, все более удаляясь от железнодорожного полотна, постепенно забираясь все выше и выше, погружаясь в тень деревьев и выбираясь на скалистые открытые места. Мы потеряли ощущение времени. Перекусили. Сергей вдоволь наснимал живописных видов, проходящих далеко внизу составов. Наверное, мы иногда забегали в Европу, возвращались в Азию, и были счастливы, когда вдруг услышали надсадные гудки тепловоза. И поняли, что это гудит наш. Нас отделяло от него несколько сотен метров лесистого склона, крутых и опасных осыпей, то подъемов, то спусков — мы и дорогу-то забыли, каким образом забрались сюда. Не могло быть и речи, чтобы мы успели добежать до состава. А ждать он не мог. Строго говоря, он не имел права даже останавливаться. Это было и запрещено, и чревато неприятностями — тяжелый состав в горах не так-то просто стронуть с места. Все это мы усвоили, расспрашивая машиниста по пути сюда, не предполагая, что подобные детали коснуться нас лично. Мы замахали руками — давай, мол, езжай! Но машинист остановил поезд. Он стоял минут пять, но мы не в силах были добраться до полотна и за час. Поднатужившись, тепловоз стронул с места состав, и через две минуты мы оказались в полном одиночестве под сводами елей.
Мы спустились вниз и зашагали по шпалам навстречу накатывавшей с востока ночи. Порой стены сжимались и мы втягивались в узкие коридоры с нависавшими слева и справа глыбами гранита. Над головою мерцали звезды, а сзади начинала неприятно подрагивать земля — приближался состав. Тогда мы ускоряли шаг, надеясь проскочить узкое место. Измученные, мы вышли километров через десять к станции, где нас подобрала поездная бригада, предупрежденная нашим машинистом.
По мере обретения профессионального опыта и выработки собственной линии поведения, такое безобидное трюкачество трансформировалось в привычку к риску и нестандартным ситуациям. Когда из сельской школы мы получили — а я тогда работал в молодежном журнале — тревожное письмо, крик души сельского учителя, над которым форменным образом издевалось местное начальство — и над детьми, как он сообщал, — я не стал заезжать в областной центр, как было принято, отмечаться в Облоно, а потом в Роно, прихватывать с собою соглядатая в юбке под видом строгого инспектора, а без предупреждения заявился прямо в маленькую деревянную убогую школенку. Но для этого надо было пройти пешком десять километров по двадцатиградусному морозу — иных расстояний Россия не знает. Но зато сразу на бал! То есть в учительскую, где все как есть, без прикрас. Меня не ожидали. И даже вождь стоял на подоконнике, задвинутый лицом к окну, задернутый шторой. На белой лысине бюста заметны были следы чернил: дети забавлялись игрой в крестики-нолики.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Огонек»-nostalgia: проигравшие победители"
Книги похожие на "«Огонек»-nostalgia: проигравшие победители" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Глотов - «Огонек»-nostalgia: проигравшие победители"
Отзывы читателей о книге "«Огонек»-nostalgia: проигравшие победители", комментарии и мнения людей о произведении.