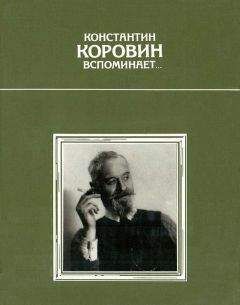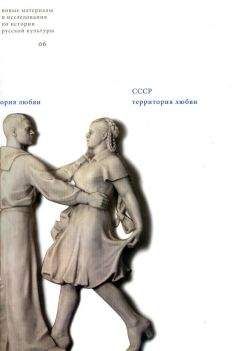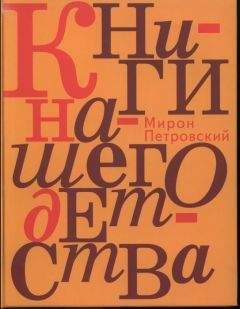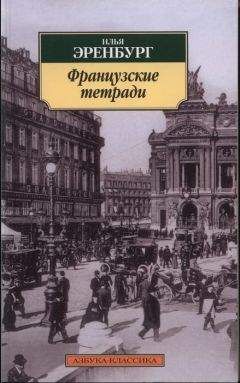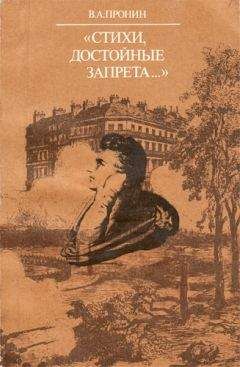Глеб Глинка - Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений"
Описание и краткое содержание "Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений" читать бесплатно онлайн.
В книге впервые собрано практически полностью поэтическое и мемуарное наследие выдающегося писателя "второй волны" русской эмиграции Глеба Александровича Глинки (1903-1989). Представитель одного из уничтоженных течений советской литературы, группы "Перевал", учитель поэта Николая Глазкова, Глинка жил в довоенном СССР в ожидании ареста, пока не разразилась война. Писатель был призван в "ополчение" и осенью 1941 г. попал в немецкий плен. Судьба поэта сложилась необычно: в СССР его считали погибшим, но он был освобожден союзниками, уцелел, жил сперва в Бельгии, позже в США, где влился в поток эмигрантской литературы и писал до конца жизни.
Помимо примерно двухсот стихотворений, книга содержит впервые публикуемый полный текст книги "На перевале" и избранные статьи о литературе.
Имя Безыменского для перевальцев давно стало синонимом лакейского прислужничества, обывательского благополучия и абсолютной бездарности. Но для редакции «Литературной газеты», выражающей линию партии в литературе, стихи Безыменского — «действенная поэзия, способствующая изменению мира».
Таким образом, «трагедийным» оказалось не только творчество перевальцев, но и положение их в советской литературной общественности.
Начиная с 1930 года, внепартийный гуманизм рассматривался большевистской моралью как пособничество врагам революции, а художественная правда, искренность и просто писательская честность считались в лучшем случае реакционным предрассудком.
«Перевал» пытался бороться за свои принципы. Но мы совсем не собираемся делать из перевальцев великих людей или рыцарей без страха и упрека. Это были всего-навсего живые люди (не в сталинском, а в перевальском, т.е. в обычном смысле этих слов) со многими человеческими слабостями. Это были, быть может, и небольшие, но всё же искренние писатели и честные критики, которые боролись за, казалось бы, совершенно естественное право художника — видеть, понимать и чувствовать мир по-своему. И при другой общественно-политической ситуации несомненно могли достичь неизмеримо больших творческих высот, нежели тот перевал, с которого они в расцвете своих сил были беспощадно сброшены в небытие «сталинской заботой о живом человеке».
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПОХОДА
Уже к 1928 году в «Перевале» явно обозначилось основное ядро объединения. Это были писатели, которые не только разделяли взгляды Воронского на искусство, но, дополняя и обогащая их своим опытом, вместе с перевальскими теоретиками пытались создать из литературной группы литературную школу. Так образовался первый, он же последний, перевальский десяток. Ко времени постановления ЦК о роспуске всех литературных объединений в 1932 году в «Перевале» фактически осталась только эта ведущая группа, связанная между собою общностью литературных интересов, постоянным общением — приятельством, а в отдельных случаях и глубокой личной дружбой.
«Перевал», в противоположность ВАППу, не был организацией бюрократической. Его канцелярия всегда велась небрежно, и даже после казенного предписания о роспуске группы перевальцы не сразу собрались уведомить ЦК о ликвидации своей организации. Да, собственно говоря, и ликвидировать-то было нечего. Официальные собрания и без того давно прекратились, а приятельские беседы на дому у того или другого члена содружества, по мнению перевальцев, являлись их частным делом и запрещению не подлежали. Но блюстители литературных нравов, которым не удалось поставить «Перевал» на колени, хотя и не сразу, но всё же спохватились и в нужный момент, а именно ко времени «ежовщины», вспомнили и донесли куда следует, что нераскаявшиеся перевальцы ушли в подполье.
Расправа с «тайной организацией» последовала в 1937 году.
Однако прежде чем перейти к заключительным страницам истории «Перевала», мы для большей четкости картины дадим хотя бы беглые характеристики участников литературного содружества.
Из теоретиков «Перевала» прошли весь путь только А. Воронский, Димитрий Горбов и А. Лежнев; художники: Ник. Зарудин, Борис Губер, Иван Катаев, П. Слетов, Глеб Глинка, Ник. Тарусский, Ефим Вихрев, Д. Семеновский и Игорь Малеев.
Последнее имя молодого писателя мы включаем в список, так как Малеев хотя и недолго находился в «Перевале» и напечатал всего одну вещь — «Рассказ о гуманности» в восьмом сборнике «Ровесники», но с ним связано обвинение перевальцев в явном сочувствии и помощи троцкистам.
Действительными троцкистами в «Перевале» были только три человека: Воронский, Зарудин и Малеев, остальные члены содружества ни в какой мере не были причастны к троцкистской оппозиции.
А. К. Воронский
«Перевал» был несомненно детищем Воронского, и самое название группы, как мы уже говорили, было заимствовано из статьи Воронского «На перевале».
Кровную связь с Воронскнм чувствовали не только настоящие, но и бывшие перевальцы, то есть писатели, которые не выдержали до конца и ушли из содружества. Несмотря на непрерывные нападки и, наконец, на решительную официальную пропаганду против Воронского, долженствующую устрашать всех и каждого из «Воронщины», книги Александра Константиновича были школой не для одного «Перевала». Наиболее развернутый сборник его статей «Искусство видеть мир» воспринимался почти всеми писателями как единственная в советской литературе серьезная постановка вопросов, связанных с психологией творчества.
Даже явные враги Воронского вынуждены были признать некоторые его заслуги; обрушиваясь против формулы Воронского «Искусство есть познание мира в образах» или обвиняя его в преувеличении роли попутчиков и злоумышленной недооценке пролетарской литературы, присяжные критики отмечали, что Воронский выделяется меткостью характеристик, нешаблонным подходом к литературным явлениям и прекрасным языком.
Воронский родился в 1884 году. Он сын священника и ученик Тамбовской духовной семинарии. Девятнадцатилетним юношей он вступил в партию РСДРП (б) и в 1905 году был исключен из семинарии. Вел партийную работу в Петербурге и в Гельсингфорсе, а в 1907 году был арестован и отбыл год крепости и два года ссылки в Яренске, затем снова вернулся на партийную работу и в 1912 году участвовал в Пражской конференции большевиков. После второй ссылки в Кемь он работал на юге России. В 1917 году Воронский стал членом Одесского губкома и председателем Одесского совета рабочих и крестьянских депутатов. Потом в Иванове-Вознесенске он редактировал газету «Рабочий край».
В конце 1920 года Воронский переехал в Москву и в 1921 году организовал первый пореволюционный толстый журнал «Красная новь», работал в Государственном издательстве и возглавлял издательство «Круг».
С первых же своих шагов в литературе Воронский выступал против отвлеченных схем и шаблонов, против всяческой неряшливости. Призывал писателей к революционной романтике и боролся против монополии того или иного литературного течения.
Впоследствии Воронского обвиняли в том, что, работая главным образом с попутчиками, он, вместо активного руководства ими, сам оказался под их влиянием. Но дело, конечно, совсем не в попутчиках. Вплотную подойдя к художественной литературе, а через нее и к общей русской культуре, Воронский со свойственной ему внутренней честностью должен был пересмотреть и по-новому осмыслить свое отношение к этой культуре. В то же время он из года в год всё более убеждался, что та революция, которой он отдал все свои силы, осталась где-то далеко позади и вместо чаемых свобод надвигается страшная тирания сталинской диктатуры с ее полицейским режимом.
Воронский сделал последнюю попытку бороться и примкнул к троцкистской оппозиции.
Ко времени создания «Перевала» Вороненому едва исполнилось сорок лет, но крепко посаженная круглая голова его с чисто выбритым подбородком была покрыта курчавыми, всегда аккуратно подстриженными и совершенно седыми волосами. Низкорослый, с огромными, почти негритянскими губами, с крутым лбом и большими серыми глазами, которыми он смотрел на собеседника всегда в упор с вниманием боксера на ринге, казался он в первый момент холодным, волевым и непокорным всем и всему, но тут же становилось ясно, что глаза эти более любознательны, нежели упрямы, а то и дело мелькавшее в них озорное добродушие внушало полное доверие к этому сильному человеку. И в то же время панибратство с Воронским даже при самых близких с ним отношениях никому не могло прийти в голову. Эта дистанция, которая возникала сама собой не только между ним и его литературными врагами, но всегда отделяла, точнее выделяла его и среди соратников, в любом общении создавала впечатление, что он хотя и добродушный и чуткий, но всё же офицер среди солдат. И тут, несомненно, действовал не один гипноз его седины и большого стажа подпольной работы, а прежде всего его столь редкие в это время качества беспощадной прямоты и честности перед самим собой.
Отношение Воронского к «Перевалу» с самой его организации было всегда осторожным, и тут тоже чувствовалась некоторая дистанция. Воронский постоянно всем своим поведением как бы подчеркивал, что никакого давления на перевальские решения оказывать не собирается и предоставляет перевальцам ту же свободу мыслить и действовать на свой страх и риск, каковой пользуется он сам.
Из участников содружества первое время он близко общался с Николаем Зарудиным, который одновременно с ним примкнул к троцкистам. Но в наиболее тяжелые дни (исключение из партии, уход из «Красной нови») он почувствовал, что самыми верными друзьями его являются Лежнев и Горбов. В разгаре ожесточенной травли «Перевала», замечая естественное смятение у некоторых соратников, Воронский с обычной своей добродушной усмешкой всерьез уговаривал их бросить весь этот никому не нужный героизм верности и ради собственной безопасности отречься от своего перевальства и в первую очередь, конечно, от «воронщины».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений"
Книги похожие на "Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Глеб Глинка - Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений"
Отзывы читателей о книге "Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений", комментарии и мнения людей о произведении.