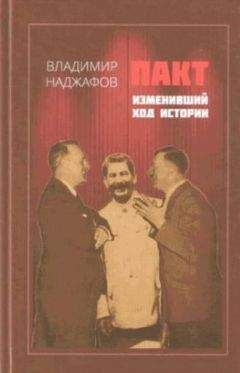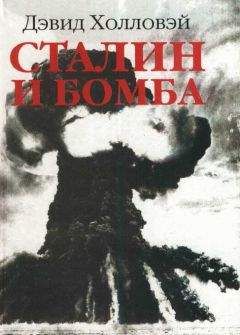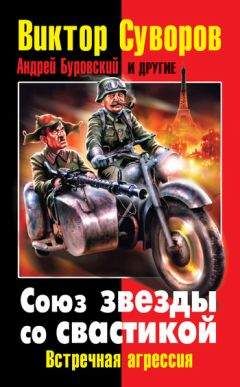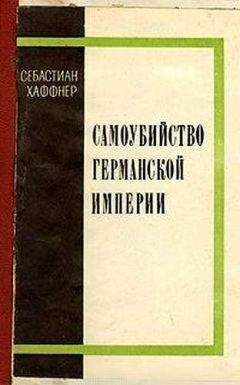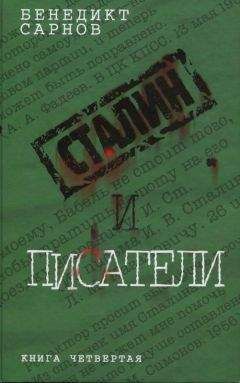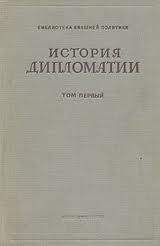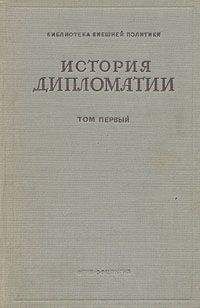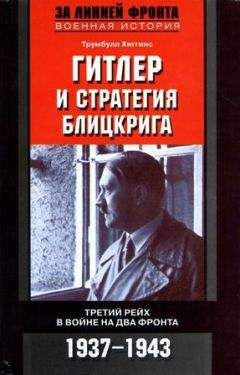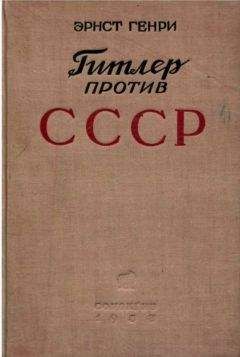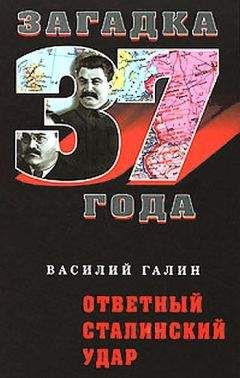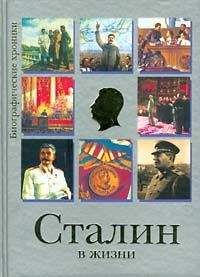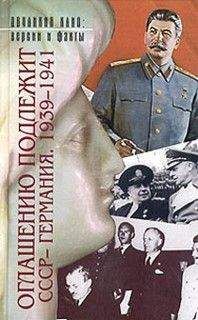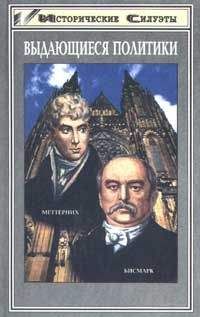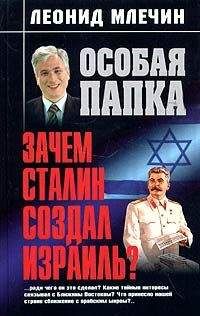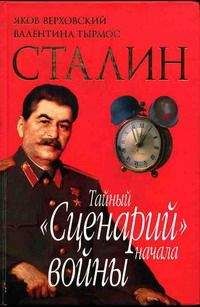Ингеборг Фляйшхауэр - Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939"
Описание и краткое содержание "Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939" читать бесплатно онлайн.
В конечном счете он от предельно сдержанной позиции перешел на ложный путь готовности к противоречившей всем международно-правовым нормам экспансии. В этой его эволюции прослеживаются три последовательных этапа.
1. В преддверии визита Риббентропа для Советского правительства было важно заполучить подпись германской стороны под пактом о ненападении, который в случае германского вторжения в Польшу сулил советской стороне спокойствие на ее западной границе. Другими словами, Советское правительство ожидало от германской стороны договорно-закрепленного заявления об отказе от перехода через некую важную для интересов безопасности СССР демаркационную линию. Советская сторона хотела, чтобы в особом протоколе эта линия — выражение ее жажды 200-процентной безопасности — была дополнена заявлением о гарантиях относительно (по крайней мере военной, но по возможности и политической) неприкосновенности Прибалтийских стран. Сверх того она намеревалась добиться от Германии обещания отказаться от поддержки японской агрессии против СССР и союзной ему Монголии. Предыдущие заверения Германии в том, что на всем пространстве от Балтийского до Черного моря любой вопрос может быть решен на основе взаимного согласия, она понимала по меньшей мере в том смысле, что Германия предположительно уступит ей (для использования) — пусть и в результате трудных переговоров — те стратегические позиции, которых добивался Ворошилов в ходе военных переговоров с западными державами. Сталин заранее не уточнял эти предложения, разумно уступив право инициативы германской стороне.
Таким образом, в то время как Сталин ожидал от Риббентропа недвусмысленного признания предела любой возможной военной экспансии в восточном направлении и предоставления благоприятных позиций вдоль внешней периферии советского пояса безопасности, ему предлагались сферы политических интересов. То, что понятие «сферы интересов» в ходе переговоров не уточнялось, а, напротив, в известной мере истолковывалось германской стороной как само собой разумеющееся, естественное пожелание двух пострадавших от Версаля держав, вытекает из последующих дипломатических переговоров: первое имплицитное разъяснение этого понятия содержалось в призыве, с которым Риббентроп 3 сентября 1939 г. обратился к Молотову и в котором он попросил разъяснить, «не считает ли Советский Союз необходимым, чтобы русские вооруженные силы в данное время выступили против польской армии в пределах русской сферы интересов и со своей стороны овладели этой территорией». Затем следует примечательная фраза: «По нашим представлениям, это не только было бы облегчением для нас (!), но и соответствовало бы духу московских соглашений и советским интересам». При этом Шуленбургу была дана инструкция «выяснить, можем ли мы обсуждать это дело с приехавшими сейчас сюда к нам офицерами и как вообще Советское правительство мыслит их здешний статус»[1265].
Этот язык оговорок и обусловливаний указывает на все еще существовавшую серьезную неуверенность в вопросе о возможном советском коллаборационизме. Таким образом, заранее заданной интерпретации смысла московских соглашений еще не существовало; она давалась немецкой стороной лишь практически — по мере военного продвижения Германии — ив очень значительной мере принималась советской стороной. Характерным для этого медленного осознания Москвой подразумеваемого германской стороной понятия «сфера интересов» и всех вытекающих из него политических и военных последствий явился ответ, который Молотов дал германскому послу, настаивавшему на объявлении Советским Союзом — в форме письменного заявления правительства СССР — о вступлении в войну (5 сентября 1939 г.). Никогда прежде Сталина и его ближайших советников не видели в состоянии такой подавленности и беспомощности, как в этот момент. «Мы, — гласил советский ответ, — признаем, что в надлежащий момент непременно должны будем начать конкретные действия. Однако мы считаем, что этот момент еще не наступил. Возможно, мы ошибаемся, но нам кажется, что излишней спешкой можно лишь повредить делу и содействовать сплочению противников (?)...»[1266]
2. В полной мере осознав, что германская сторона призывала, а обстоятельства прямо-таки вынуждали его занять выделенное ему стратегическое предполье, Сталин на втором этапе перешел к неуклонному и последовательному расширению и укреплению своих стратегических позиций внутри признанной за ним сферы интересов. Этому служили начатые 12 октября политические переговоры с Финляндией, которые закончились провалом, и заключение пактов о взаимопомощи с Эстонией (28 сентября), Латвией (5 октября) и Литвой (10 октября), содержавших обязательства названных стран относительно разрешения на размещение советских войск в стратегически важных районах, притязание на которые выдвигалось Советским Союзом уже в ходе военных переговоров с западными миссиями.
3. Лишь на третьем этапе, психологически уже полностью оказавшись в фарватере гитлеровской экспансии, с одной стороны, и находясь под воздействием успехов Гитлера во Франции, взоры которого были устремлены на Восток, с другой, Сталин изготовился для настоящей военной экспансии. Но только основательное исследование может сказать, что было сильнее: его подстегиваемое германскими успехами стремление идти в ногу с победоносным вермахтом или же (неудачные) планы создания стратегического предполья вдоль собственных границ. Если в пользу второго варианта можно привести веские аргументы, то первый остается в сфере умозрительных предположений.
В Финляндии эта экспансия ему не удалась, а точнее, как показал советско-финляндский договор от весны 1940 г., удалась лишь в очень ограниченной степени. Но зато она оказалась успешной в Прибалтийских государствах и в Бессарабии. 15 июня 1940 г. Красная Армия вступила в Литву, а 17-го — в Эстонию и Латвию, причем здесь — в отличие от экспансии германского вермахта — была соблюдена хотя бы видимость референдума, дабы представить мировой общественности ввод войск как акцию, по своему характеру сугубо демократическую и социалистическую[1267]. А 29 июня 1940 г. генерал Жуков, до этого проявивший себя на Дальнем Востоке, в тоге «освободителя молдавских, русских и украинских братьев» вступил в Бессарабию с целью овладения территориями до Дуная и Прута, уступленными Россией в рамках версальской системы.
То, что Сталин этим одновременно создал для своей Красной Армии выдвинутый далеко вперед гласис, призванный обезопасить от ожидаемой германской агрессии, относится к другому разряду фактов и затрагивает вопрос о преимуществах и недостатках экстенсивной (ориентированной на обеспечение территории) и интенсивной (ориентированной на обеспечение границ) концепций безопасности — вопрос, который уже был поднят ранее, но ответ на который здесь не может быть дан.
Однако парадоксальность этого соглашения состояла в том, что оно было дорого Сталину в той мере, в какой он смог пожать неожиданно подвалившие ему плоды. И точно в такой же мере оно казалось Гитлеру подозрительным и тормозящим дело[1268]. В том же ускоренном ритме, в каком Сталин на протяжении всего периода овладения отходившими к его сфере интересов территориями вплоть до первых недель июня 1941 г. стал давать все большие и, наконец, до избыточности полные доказательства своей политики умиротворения, у Гитлера нарастали недоверие, раздражение и жажда стать единственным и исключительным обладателем этих огромных «пространств». В этой «любви-ненависти», которой были отмечены их отношения, у Гитлера, росло желание унизить Сталина и выключить его из игры. В итоге стала вырисовываться перспектива пересечения их путей.
Подписание
К моменту подписания пакта Гитлер еще не полностью «обвел» Сталина «вокруг пальца»[1269]. Этот последний — несмотря на эйфорию Риббентропа, которая после его возвращения в посольство распространилась на всю его свиту[1270], — оставался трезвым и спокойным. Более того, «хозяин Кремля» стал даже несколько более любезным: он выглядел теперь победителем в этой поначалу столь неравной игре и излучал вновь обретенную — за признанной за ним демаркационной линией — безопасность. Между тем стиль этой встречи по-прежнему оставался явно далеким от характера государственного акта (картина изменилась лишь при заключении договора о границе и дружбе от 28 сентября 1939 г.). Сначала Сталин дал ясно понять, что речь идет, говоря словами Хильгера о браке не «по любви», а «по расчету»[1271] — толкование, которое с обнародованием текста пакта о ненападении в «Правде» от 24 августа 1939 г. получило широкое распространение в стране и оставалось в силе на протяжении всего периода его действия. Оно прозвучало уже в опубликованном на страницах «Правды» коммюнике от 24 августа[1272] и — что осталось не замеченным многими интерпретаторами — в речи Молотова на внеочередной четвертой сессии Верховного Совета СССР, созванной для ратификации договора 31 августа 1939 г.[1273] А после разрыва немецкой стороной германо-советского союза толкование это позволило Сталину дать в драматической речи по радио от 3 июля 1941 г. в определенной мере достоверное разъяснение по поводу заключения пакта 1939 г. и тем самым одновременно восстановить преемственность своей прежней внешнеполитической концепции и концепции союзов[1274].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939"
Книги похожие на "Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ингеборг Фляйшхауэр - Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939"
Отзывы читателей о книге "Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939", комментарии и мнения людей о произведении.