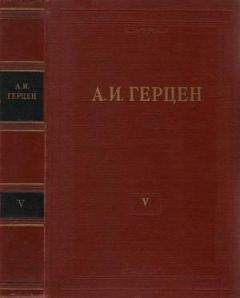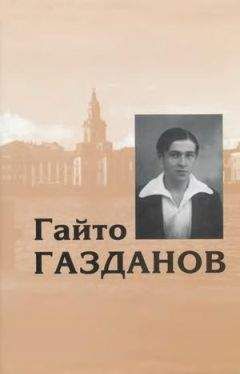Михаил Салтыков-Щедрин - Том 9. Критика и публицистика 1868-1883

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 9. Критика и публицистика 1868-1883"
Описание и краткое содержание "Том 9. Критика и публицистика 1868-1883" читать бесплатно онлайн.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В девятый том настоящего издания входят литературно-критические и публицистические статьи и рецензии Салтыкова из «Отечественных записок», не включавшиеся им в отдельные издания и оставшиеся в первопечатных публикациях. Почти все материалы относятся к периоду 1868–1871 гг., когда в журнале существовал библиографический отдел «Новые книги», прекративший свое существование с исходом 1871 г. и возобновленный в 1878 г.
И между тем эта скользкая почва соглашений есть та самая, на которую всего чаще указывает и суровость установившейся практики, и та неизвестность, которая со всех сторон охватывает дело либеральной мысли. Нужно обладать очень сильным и верным вооружением, чтобы пройти мимо упомянутого выше чудовищного зева, не отравив навсегда своей памяти воспоминанием об нем, чтобы сохранить неприкосновенным все свое нравственное убеждение, не отозваться в известных случаях незнанием и не слукавить перед своею совестью. Тем не менее объяснение вредной наклонности к соглашениям с помощью одних внешних опасений все-таки не исчерпывает факта во всем его объеме, а нуждается в других, более существенных подкреплениях. Что в деле соглашений деятельным агентом является не один страх перед неумолимостью практики, это доказывается тем, что на этой почве мы встречаем такие имена, с упоминовением которых в наших умах возникает представление об убеждениях совершенно определенных. Присутствие этих убеждений мы чувствуем, несмотря на все колебания; мы можем проследить их шаг за шагом, несмотря на запутанности, которыми они окружены. Люди, выработавшие себе вполне ясные идеалы, не могут уступать их ради одного страха перед внешнею обязанностью уже по тому одному, что самая выработка этих идеалов сопровождается опасностями настолько значительными, что человек, испытавший их, имеет полное право без недоверия относиться к своей нравственной силе. Тот решительный шаг, который дает окраску всей жизни человека, никогда не делается без тяжких жертв. Для многих он сто̀ит радикальной перемены в самом образе существования, для многих — разрыва с той коренной средой, к которой они принадлежали и которая привязывает к себе не только силою воспоминаний и привычки (а кто не испытал на себе, как велика эта сила?), но и силою действительно оказанных услуг. Можно ли допустить, что человек, решившийся однажды на подобный шаг, есть человек робкий и легкомысленный; что он не сумеет поддержать свои убеждения с тою же твердостью, с какою к ним первоначально приступал? Нет, подобная мысль может быть допущена много-много как один из второстепенных мотивов, обусловливающих человеческие действия, а отнюдь не как единственное или даже характеристическое объяснение их. Этого последнего, очевидно, следует искать совсем в другом месте, а именно в тех целях, которые предполагается достигнуть путем соглашения.
Цели, которых обыкновенно предполагают достигнуть путем соглашений, в первоначальном, беспримесном своем виде всегда заключаются в ограждении интересов самой либеральной мысли. Если велики нравственные страдания, причиняемые борьбою с предрассудками и наивным (непреднамеренным) непониманием истин самых бесспорных, то они делаются еще более невыносимыми, когда устраняется самый вопрос о возможности борьбы и когда предрассудок стоит твердо, благодаря не внутренней своей силе (таковой никогда у него не обретается), а множеству внешних обеспечений, которые освобождают его даже от дачи каких-либо ответов и объяснений. Устрашает не опасность борьбы и даже не неминуемость поглощения (хотя и в этом нет ничего особенно привлекательного), но предвидение гораздо более горькое и существенное: предвидение той безгласности и бесплодности, которыми имеет сопровождаться поглощение. Перед деятелем мысли стоит очень большая область, которую он просто-напросто обязывается не трогать, и рядом с нею очень маленькая, в которой он может распоряжаться под опасением лишения огня и воды. Эта угроза, всегда присущая, всегда выражаемая с самою возмутительною ясностью, имеет изнурительное влияние не на один внешний образ действия, но и на внутренний строй убеждений. Начинает казаться, что соглашения могут нечто спасти; является надежда с их помощью отстоять хотя наружное бытие тех дорогих принципов, которые в противном случае рискуют быть совершенно затоптанными. Пускай мысль захиреет на время, думают ее поборники, пускай она живет жизнью неполною и далеко не нормальною, но, по крайней мере, она не навсегда будет вычеркнута из числа умственных ценностей, обращающихся в человечестве, и со временем, конечно, возвратит себе утраченную силу и достоинство. Таков силлогизм, который обыкновенно предшествует соглашениям, и, по нашему мнению, он заключает в себе единственно правдивое и добросовестное объяснение даже таких уступок, которые, на первый взгляд, возмущают нас.
И действительно, мы видим, что либеральная мысль хоть медленно, хоть черепашьими шагами, но все-таки проникает в общество и что мы, например, люди современной Европы, отстоим довольно далеко и от азиатского деспотизма, и от идей фаталистической неравноправности людей, царствовавших в древних республиках, и от религиозной нетерпимости средних веков. Когда Людовик XIV произносил свое знаменитое: l’état c’est moi[20], то, конечно, были мыслители, которые очень хорошо понимали, что подобная фраза есть плод самого вредного тщеславия, однако ни один из них не решился выразить это прямо, и знаменитый король так и умер в том приятном заблуждении, что в его лице сосредоточивались и благополучия, и невзгоды всей Франции. Тем не менее с небольшим через полвека эта самая фраза, никем в свое время прямо не опровергнутая, все-таки встретила себе опровержение самое наглядное и бесповоротное*. Не доказывает ли это, что при известной обстановке убеждение, высказанное, так сказать, в упор, может, без всякой для себя пользы, возбудить только слепой и авторитетный фанатизм и все ужасы сопряженной с ним ярости? Не доказывает ли это, что самая наклонность к соглашениям заключает в себе своего рода упорство, которое даже не бесполезно для успехов мысли?
Что во всех этих предположениях есть известная доля справедливости — с этим невозможно не согласиться, особенно если мы не будем упускать из вида ту невыгодную обстановку, среди которой мысль обыкновенно проявляется, но в абсолютном смысле все-таки еще более справедливо, что ничто не действует на мысль столь растлевающим образом, как необходимость прибегать к оговоркам и уступкам. Учение, пораженное этой язвою, кроме того что бывает вынуждено делать продолжительные и бесполезные обходы, всегда принимает в себя столько примесей, которые делают его в значительной степени неузнаваемым. Разительный пример подобного извращения мы видим на идее человеческой равноправности, составляющей одну из главных задач христианского учения. Нет сомнения, что идея эта и сама по себе совершенно проста (так сказать, присуща пониманию каждого), да и вполне соответствует выгодам большинства, а между тем сколько прошло веков, сколько пролито человеческой крови для ее торжества, и все-таки твердых оснований, которые дозволяли бы предполагать, что она действительно вошла в общее сознание, не имеется и скорого конца борьбы за восстановление первоначальной ее чистоты не предвидится. Другой подобный пример, хотя и не столь разительный, представляет идея, ставящая прогресс человечества в зависимость от уяснения отношений человека к природе. Еще Сенека говорил naturalia non sunt turpia*[21], a мало ли даже в наше время найдется таких, которые в этом афоризме не видели бы посягательства на спокойствие общества, а в деятельности, проникнутой подобным направлением, не заподозрили бы элементов, стремящихся втоптать в грязь верования, которыми живут массы! Отчего происходит это вечное колебание, в котором находятся истины, по-видимому совершенно бесспорные? Очевидно, что причину его должно искать, между прочим, и в том невыгодном положении, которое обязывает мысль поступаться самою существенною частью самой себя и которое не только замедляет ход ее, но и самую ее сущность растлевает множеством самых дурных привычек, обращающихся нередко в природу. Если и представляется вероятным, что соглашения до известной степени ограждают мысль от опасностей совершенного исчезновения, то не подлежит никакому спору, что они же делают ее малосильною и достигающею своих результатов медленным и мучительным путем.
Наконец, третью внутреннюю опасность представляет та изолированность, в которую становится мысль, вследствие долговременного разобщения с жизнью и ее действительными требованиями. Справедливость этого положения всего лучше объяснит нам следующий пример. Известно, что после декабрьского переворота* во Франции для либеральной мысли наступили черные дни. Представители ее были рассеяны по лицу земли: одних сослали в Кайенну или в Алжир, других просто изгнали из Франции, третьи сами удалились за границу. Таким образом, очень значительная масса людей, стоявших во главе либерального движения (по свидетельству одного из апологистов декабрьского переворота, Гранье-де-Кассаньяка, этим порядком освободились от 26 000 человек), вдруг очутилась не только вне его, но и вне всякого практического участия в делах своей родины. Долгое время либеральные стремления Франции оставались без явных и сколько-нибудь ярких руководителей, но так как без остатка истребить либеральную идею все-таки невозможно, то она и жила под пеплом, постепенно приобретая себе более и более простора. Наконец, время убедило даже деятелей декабрьского переворота, что прежняя система стеснений представляет много таких неудобств*, которые делают управление страной невозможным, и что самая необходимость указывает на освежение правительственного механизма посредством привлечения к нему (разумеется, в возможно ограниченной степени) либеральных элементов, как на единственный исход, требуемый не только честным воззрением на дело, но и чувством самосохранения. Но тут-то именно и выказались плоды той изолированности, в которой долгое время находилась либеральная мысль. То, что случилось некогда с эмигрантами французской революции, возвращенными к деятельной жизни реставрацией, то же самое повторилось и над либералами 1848 года. Кажется, Гейне сравнивал первых с часами, которые, будучи однажды остановлены и потом, через несколько лет, вновь пущены в ход, начинают свой бой именно с того числа ударов, которое им приходилось выбивать в ту минуту, когда они были остановлены; это же сравнение можно применить и к настоящему случаю. Все современные известия удостоверяют, что французская либеральная партия, несмотря на сравнительно большой простор, полученный ею для своих действий, не может уладиться ни насчет своих требований, ни насчет своих вождей. Прежние вожаки оказываются оставшимися при тех же афоризмах*, которые и до декабрьской катастрофы не дали никаких практических результатов; новые деятели оказываются не внушающими доверия по своей малоопытности и совершенному незнанию тех формальных приемов, которые, несмотря на свою бессодержательность, все-таки необходимы в борьбе с таким строем, который сам весь держится на формализме. Многие в этом видят повод, чтоб упрекать либеральную партию в бессилии и осыпать ее насмешками, но, кажется, справедливее будет, если мы отнесемся к этому факту как к явлению очень печальному, но совершенно естественному. Мысль живет и питается практическими применениями; если однажды нить этих применений прервана и устранена их преемственность, то само собою разумеется, что и самое развитие мысли прекращается или, по крайней мере, ослабляется очень значительно. Странно и даже возмутительно слышать эти легкомысленные упреки и недобросовестные насмешки. Сначала считают ни во что разорить мысль и довести ее до изнеможения, а потом, когда она, несмотря на это варварство, все-таки заявит о своем праве на существование, начинают бросать в нее камнями и плевками за то, что она не может сразу собраться с силами и овладеть делом. Но не достаточно ли свидетельствует в ее пользу уже то одно, что она осталась жива? Когда Сийеса спрашивали, что̀ он делал во время террора девяностых годов, то он отвечал, что оставался жив. По нашему мнению, это — ответ, который с полною силой может быть применен не только к одной какой-нибудь форме террора, но и ко всем террорам вообще.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 9. Критика и публицистика 1868-1883"
Книги похожие на "Том 9. Критика и публицистика 1868-1883" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Салтыков-Щедрин - Том 9. Критика и публицистика 1868-1883"
Отзывы читателей о книге "Том 9. Критика и публицистика 1868-1883", комментарии и мнения людей о произведении.