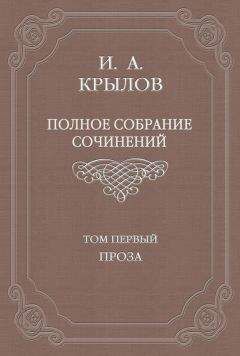Михаил Салтыков-Щедрин - Том 12. В среде умеренности и аккуратности

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Описание и краткое содержание "Том 12. В среде умеренности и аккуратности" читать бесплатно онлайн.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Похороны*
Скучно жить на свете, господа!*
ГогольМы уныло шли за траурными дрогами, изредка только перебрасываясь отрывочными замечаниями. Быть может, нам не об чем было беседовать друг с другом (хотя почти все, составлявшие печальный кортеж, были по профессии литераторы), но, может быть, и самая обстановка, среди которой совершалась погребальная церемония, располагала к угрюмой сосредоточенности.
Хоронили Пимена Коршунова, русского литератора, не особенно знаменитого, но и не вовсе безвестного — та̀к, средней руки. Хоронили на счет семидесяти пяти рублей, которые ассигновал Литературный фонд*, предварительно, впрочем, удостоверившись, что покойный пил водку только перед обедом и «не предаваясь». Стояло хмурое октябрьское утро, но, благодаря наступившим морозам, на улицах было сухо и слегка скользко; низко, почти над самыми домами, стояла непроглядная масса серых облаков, из которых попархивал первый снежок. Близких по крови у Коршунова не было, из близких по духу собралось на похороны четыре-пять сотрудников газеты, в которой, под конец жизни, участвовал покойный. Эти последние ближе жались к гробу, но и их горесть формулировалась как-то чересчур несложно, словно одна только мысль и представлялась уму: вот и умер! Вообще весь кортеж состоял из пятнадцати — двадцати человек, разбившихся по группам. Всем было не по себе, все шли понуривши голову, как будто каждый думал: вот скоро надорвусь и я… да и над чем надорвусь!! Только какой-то проворный газетчик, ликуя под впечатлением успешной розничной продажи, порхал от группы к группе и таинственно сообщал всем, и хотевшим, и не хотевшим слушать: вчера разошлось двадцать восемь тысяч нумеров!
На Театральной улице, против дома, где помещается цензурное ведомство,* отслужили литию*. Сам покойный пожелал этого и накануне смерти говорил: пускай хоть по поводу моего переселения в лучший мир совершится сближение литературы с цензурой! Во время литии цензурный сторож пронес в ворота ведро алых чернил, и кто-то громко, без предварительной цензуры*, сострил: вот писательская кровь, невинно пролиянная! Но и эта острота ни в ком не вызвала отголоска, и затем кортеж убийственно медленным шагом потянулся дальше.
Чувство бесконечной отчужденности и наготы овладевало всяким при взгляде на эту бедную обстановку. Думалось, что везут какого-то отщепенца, до которого никому из «публики» дела нет (а он именно для «публики»-то и жил, и ради «публики» безвременно зачах и сошел в могилу). Да и своих не особенно поражала эта потеря, потому что «свои» уж давно освоились с могилами. Даже больше, чем просто «отщепенство», тут виделось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердию допущена эта бедная церемония, предметом которой служила совершенно особенная и притом не вполне безопасная человеческая разновидность, именуемая русским писателем.
По мере того как дроги приближались к месту назначения (Митрофаниевское кладбище)*, кортеж, и без того немноголюдный, постепенно редел. Одни разбрелись по попутным кондитерским и кухмистерским, обещавшись «нагнать», — и не нагнали; другие окончательно возвратились по домам, мотивируя свое отсутствие спешностью предстоящей срочной работы. У Обводного канала оказалось налицо не больше шести-семи человек, которые прежде не догадались, а теперь уж совестились улизнуть. Обстоятельство это, однако ж, послужило к оживлению кортежа; оставшиеся скучились, и беседа между ними пошла бодрее. Но предметом этой беседы служил не Пимен Коршунов («он умер» — этим все было сказано), а то, что наболело на душе у каждого, что у всех на памяти свело в могилу десятки надорвавшихся людей, что каждого из переживших преследовало по пятам, устраняя всякую мысль о возможности освободиться когда-нибудь от ига жгучей боли.
О, литература! о, змея-мачеха всех этих отщепенцев! ты, постылая! ты, напояющая оцтом и желчью* сердца своих деятелей! ты, ты была предметом их внезапно оживившегося собеседования! Много сетований, много гнева слышалось в их речах, но еще больше бесконечной любви к постылому ремеслу и какой-то детской уверенности, что все-таки только тут, на этом тернистом пути, кишащем всевозможными гадами, можно спасти душу.
Разумеется, начали со слухов, имевших ближайшее прикосновение к современности. Какое отношение может иметь эта животрепещущая современность к литературе? чего нужно ждать? будет ли лучше? Все эти вопросы как-то искони фаталистически тяготеют над литературой, а по временам врываются в нее с особенною назойливостью. Натурально, что они перенеслись и сюда. Кто-то из собеседующих высказался, что лучшие времена недалеко и что ввиду этого требуется только осторожность и терпение; но остальные отнеслись к этим надеждам скептически, хотя терпеть соглашались, потому что «не терпеть» — нельзя. Один даже такой выискался, который прямо объявил, что надеяться можно только на розничную продажу, а больше ни на что; что современные условия литературного ремесла таковы, что самое существование литератора представляется чем-то несовместным с здравыми традициями о внутреннем убеждении; что вообще, если относительно массы смертных принято говорить: благо живущим, то в применении к русским писателям правильнее выражаться так: благо умирающим, и еще большее благо — умершим. Высказавши это, он указал рукой на колебавшийся впереди на дрогах гроб, и это напоминание невольно вызвало у некоторых чуть заметную дрожь.
— Я не говорю уже о том, — продолжал расходившийся оратор, — что мы терпим от глада и труса, что мы живем чуть не в засаде, но мы не знаем даже, для чего и для кого мы пишем. Кто нас слышит и что извлекает этот слышащий из обращенного к нему слова? Многие из нас готовы положить душу (да и действительно полагают ее) «за други своя»*, а кто знает об этом? Кто отличит страстного литературного труженика от легковесной литературной балалайки, которая, по случаю распутной подвижности темперамента, готова сватать себя любому проходящему? Кому вдомек, что где-то, в какой-то лишенной света и воздуха литературной норе, ежемгновенно совершается жертвоприношение, при котором сердце истекает кровью и сгорает многострадальная писательская душа под бременем непосильных болей?
Речь эта несомненно страдала некоторыми риторическими преувеличениями, но сущность ее была небезосновательна. Стали разыскивать: что такое русская публика? из каких элементов она составляется? кто эти прекрасные незнакомцы, ради которых русский писатель волнуется в своей конуре? С какими намерениями они подписываются на журналы, покупают книги? что они вычитывают в этих книгах? может быть, видят в них только пресловутую «фигу»? а может быть, кроме «фиги», и видеть-то нечего?
— Ах, господа, господа! — вздохнул кто-то, когда дело дошло до «фиги», как мерила для оценки содержания русской книги.
Что современная русская литература небогата силами — это, конечно, не подлежит сомнению. Но не в этой относительной бедности скрывается главная беда. Есть нечто гнетущее, что̀, при самом рождении, кладет на русскую мысль своеобразную печать. Литература наша и доднесь представляет два совершенно отличные типа: с одной стороны, недоконченность, невысказанность, боязнь; с другой стороны — такая ясность, которая равносильна наглости, доведенной до разврата. Очевидно, в воздухе носится еще крепостное право. Оно провело заповедную черту, под которой похоронило громадное количество явлений и закупорило наглухо целые мириады существований, которые бьются где-то на дне, тщетно усиливаясь выйти на божий свет. И оно же вызвало и пригрело бесчисленное множество литературных паразитов, которые с изумительным легкомыслием вливают яд распутства в русский жизненный обиход.
Да, крепостное право упразднено, но еще не сказало своего последнего слова. Это целый громадный строй, который слишком жизнен, всепроникающ и силен, чтоб исчезнуть по первому манию. Обыкновенно, говоря об нем, разумеют только отношения помещиков к бывшим крепостным людям, но тут только одна капля его. Эта капля слишком специфически пахла, а потому и приковала исключительно к себе внимание всех. Капля устранена, а крепостное право осталось. Оно разлилось в воздухе, осветило нравы; оно изобрело путы, связывающие мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконец, оно же вызвало целую орду прихлебателей-хищников, которых деятельность так блестяще выразилась в бесчисленных воровствах, банкротствах и всякого рода распутствах.
Само начальство изнемогает под бременем борьбы с этим недугом. Возьмем для примера хоть литературу: кажется, ей дана самая широкая свобода, а между тем она бьется и чувствует себя точно в капкане. Во всех странах, где существует точь-в-точь такая же свобода, — везде литература процветает. А у нас? У нас мысль, несомненно умеренная, на которую в целой Европе смотрят как на что-то обиходное, заурядное, — у нас эта самая мысль колом застряла в голове писателя. Писатель не знает, в какие чернила обмакнуть перо, чтоб выразить ее, не знает, в какие ризы ее одеть, чтоб она не вышла уж чересчур доступною. Кутает-кутает, обматывает всевозможными околичностями и аллегориями, и только выполнив весь, так сказать, сложный маскарадный обряд, вздохнет свободно и вымолвит: слава богу! теперь, кажется, никто не заметит!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Книги похожие на "Том 12. В среде умеренности и аккуратности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Салтыков-Щедрин - Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Отзывы читателей о книге "Том 12. В среде умеренности и аккуратности", комментарии и мнения людей о произведении.