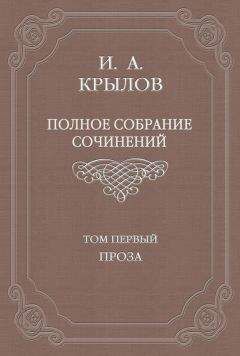Михаил Салтыков-Щедрин - Том 12. В среде умеренности и аккуратности

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Описание и краткое содержание "Том 12. В среде умеренности и аккуратности" читать бесплатно онлайн.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Тем не менее, когда, движимый инстинктом самооправдания, я начинаю вглядываться пристальнее в то положение, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участие в этом деле далеко не существенно), то в конце концов прихожу к заключению, что есть, однако ж, почва, на которой я довольно прилично могу примириться с встревожившеюся совестью. Нет деятельного, торжествующего зла — и на том спасибо! Конечно, это не бог знает какая «почва», а скорее соломинка, но, в качестве человека отживающего, человека иных песней и иных традиций, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великие надежды.
Мы переживаем время, которое, несомненно, представляет самое полное осуществление ликующего хищничества. Бессовестность, заручившись союзом с невежеством и глупостью, выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упростили свои отношения к вещам и лицам, что, не стесняясь, возводят насилие на степень единственного жизненного регулятора. Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровенного заявления «принципий» давно не бывало. Прежде, даже в среде самых отпетых людей, можно было изредка расслышать слова, вроде: великодушие, совесть, долг; нынче эти слова окончательно вычеркнуты из лексикона торжествующих людей. Прежде люди, сделавши пакость, хотя и пользовались плодами ее, но молились богу, чтоб об ней не узнали; нынче — богу молиться не принято, а краснеют по поводу затеянной пакости только тогда, когда она не удалась. Может быть, в этой темной оценке современности (то есть торжествующей ее части) очень значительную роль играет мое личное чувство — чувство отживающего человека, — но, во всяком случае, я делаю ее искренно и затем предоставляю читателю самому распутывать, сколько из приведенной выше характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько — действительности.
Но если даже такое обыкновенное слово, как «совесть», оказывается слишком тяжеловесным для современных диалогов, то какое же значение могут иметь слова более мудреные, как, например: любовь, самоотвержение и проч.? Очевидно, что единственная оценка, на которую можно в этом случае рассчитывать, — это хохот. Что-то отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то салопница, не то Дон-Кихот, выезжающий на битву с мельницами. И всем по этому поводу весело; все хохочут: и преднамеренные бездельники, и дураки.
Я принадлежу к поколению, которое воспитывалось на лоне эстетических преданий и материальной обеспеченности. Конечно, и мы не всегда оставались верными чисто эстетическим традициям, но по временам делали набеги на область действительности… нет, впрочем, не туда, а скорее в область униженных и оскорбленных. Но, под прикрытием обеспеченности, эти набеги производились словно во сне, без строгой последовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, как и зажигались. Много вышло из этой школы проходимцев и негодяев, но довольно и просто бессильных и неумелых людей. Проходимцы оказались живучими; неумелые — как и следовало ожидать — вымирают, ибо набеги в область униженных и оскорбленных, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для них даром. К числу вымирающих принадлежу и я.
Я сижу в своем углу и разнемогаюсь. Гордиться тут нечем, но самый факт вольного умирания, в виду легкой достижимости торжества, есть уже признак, перед которым должно умолкнуть резкое слово осуждения.
Сверх того, я могу назвать три особенности, которые проходят через очень значительную половину моего существования и которые, по сущей справедливости, должны быть мне зачтены.
Особенность первая — тоска. Тоскливое чувство — и притом не напускное, а совершенно искреннее — с давних пор составляет господствующий тон моей жизни. Современная вакханалия хищничества не пробуждает во мне не только стремления участвовать в ней, но даже любопытства узнать причины этого явления: она просто утомляет меня, поселяет чувство уныния. Ужели это не «заслуга»?
Я не желаю быть ни железнодорожным деятелем, ни кабатчиком, ни добровольцем, ни адвокатом, ни даже присяжным заседателем… воистину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полным отсутствием естественности и искренности, слышится мне и в базарном гвалте, и во всех бряцаниях, составляющих внешнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти из этой свалки, забиться подальше куда-нибудь в незнаемую раковину и там, ничего не видя и не слыша, предаваться грызениям тоски — вот единственный иск, который я предъявляю к жизни, единственное желание, которое мне удалось формулировать с достаточною ясностью. Никаких других исков и желаний у меня нет, потому что, если я, с одной стороны, не хочу торжествовать, то с другой — не могу и не умею самоотвергаться*. Не могу! не умею! — это не претензии на оправдание, а факт.
Бремя эстетических традиций и обеспеченности так тяжело и плотно легло на мою спину, что я уж давно не имею силы ее разогнуть. Я сказал выше, что в жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посещал область униженных и оскорбленных — я охотно посещаю ее и теперь. Но ведь это-то самое и есть тоска. Что-то несомненно вызывающее все симпатии моей души мелькает передо мной, но что именно — я различить не могу. Что-то требует моей помощи, но в чем должна состоять эта помощь и как она может быть подана — я и ответить на это не умею. Одним словом, я вкладываю персты в воздушное пространство, а не в раны. «Не могу!», «не умею!» — мучительно повторяю я себе и только одно сознаю вполне отчетливо: что все мое существо преисполнено безмерной тоской.
Я смотрю на факты самоотвержения* и боюсь применить к ним какую-нибудь оценку. Мне сдается, что я не понимаю их, и что, во всяком случае, если я начну говорить об них, то буду говорить совсем не то и совсем не об том. Никто не прельстится моими изображениями, воспроизведениями и описаниями (даже если бы они обнаруживали не водевильное, а действительное мастерство), но всякий самый снисходительный человек скажет: вот старый бесстыдник, у которого седой волос из всех щелей лезет, а он и за всем тем не чувствует потребности обуздать себя! вот неопрятный болтунище, который до преклонных лет не может очнуться от экскурсий в область униженных и оскорбленных, которыми он некогда сдабривал свое пребывание на лоне водевильного эстетизма и обеспеченности!
Я боюсь этих приговоров не потому, что они могут оскорбить мое самолюбие, а потому, что в них слышится правда. Другие птицы — другие песни! говорю я себе, и так как я совершенно сознаю себя птицею очень старою, то стараюсь во всем, что касается оценки этих других песен, по возможности обуздывать себя или, много-много, предаваться по поводу их опрятной тоске. Я соглашаюсь вперед, что это тоска бесплодная, и даже не совсем ясно мотивированная, но содержание ее, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказ в принятии его к зачету был бы воистину несправедлив.
Вторая моя особенность — щекотливость, очень близкая к стыду. По временам мне кажется, что я вращаюсь среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости. Очень возможно, что тут есть преувеличение, в котором главную роль играют мои художественные инстинкты; но ведь если мне даже доказано будет, что я преувеличиваю, от этого мне не сделается легче. Сверх того, я сознаю себя до того слабосильным, малорослым, загнанным, затерянным в какой-то безыменной толпе, что всякая возможность чем-нибудь заявить о своей личности, о своих симпатиях и антипатиях представляется навсегда для меня утраченною. Быть может, в этих заявлениях и надобности нет (старрого тряпья! кому нужно… сттаррого трряппья!), а все-таки сдается, что претензия эта не только не преувеличенная, но даже совсем-совсем естественная. Тем не менее отыскать практический выход из этого более или менее несносного положения я все-таки не в состоянии (я убежден, что жизнь, в конечном результате, поставила меня лицом к лицу с глухой стеной и что, стало быть, бесполезно даже предпринимать что-нибудь, чтоб перескочить через нее); но я могу стыдиться его и пользуюсь этою возможностью, то есть стыжусь искренно, всеми силами души. И верю, что стыд — хорошее, здоровое чувство — при случае может быть рекомендован даже в качестве целесообразного практического средства.
Стыд очищает человека; бессильному он помогает нести бремя бессилия, сильному — внушает мысль о подвиге. Нужно, чтоб возможно большее количество людей почувствовало стыд. Нужно, чтоб люди стыдились не только поражений, но и побед и одолений, не только неудач, но и удач. Чтоб в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удачи — две. Только тогда вполне выяснится, что нравственный уровень общества настолько гнил, что пощечина сделалась единственным возможным мерилом для оценки поступков и действий. Только тогда получится решимость во что бы то ни стало уйти из области пощечин.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Книги похожие на "Том 12. В среде умеренности и аккуратности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Салтыков-Щедрин - Том 12. В среде умеренности и аккуратности"
Отзывы читателей о книге "Том 12. В среде умеренности и аккуратности", комментарии и мнения людей о произведении.