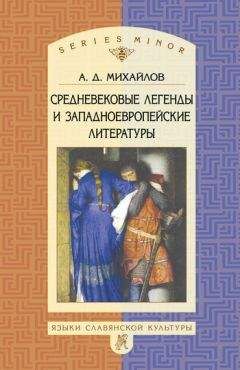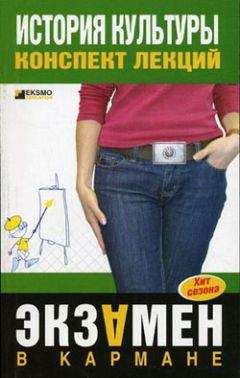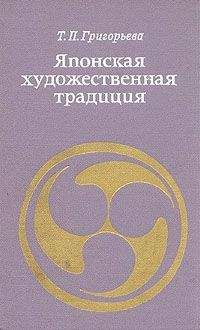Александр Михайлов - Избранное : Феноменология австрийской культуры
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Избранное : Феноменология австрийской культуры"
Описание и краткое содержание "Избранное : Феноменология австрийской культуры" читать бесплатно онлайн.
В книгу А.В.Михайлова входят статьи, переводы и рецензии, появлявшиеся в различных сборниках, антологиях и журналах на протяжении многих лет, а также не публиковавшиеся ранее тексты. Все работы содержат детальный анализ литературных, музыкальных и философских произведений. Во всех статьях речь идет о типологии австрийской культуры и ее глубоком своеобразии.
Увлеченность, с которой рассказывает Беер, такова, что до сих пор любое его произведение читается с интересом. Но среди его произведений есть на деле менее и более интересные. Самые интересные решения связаны в его творчестве с жанром плутовского романа, которому Беер сначала подражал, создавая свои «симплициады» («Симплицианский миронаблюдатель», 1777–1779; «Приключенческий Ян Ребху», 1679–1680; «Корыло», 1679–1680), а затем решительно перестроил на свой лад («Удивительное жизнеописание Юкунда Юкундиссима», 1680; «Влюбленный европеец», 1682; «Увлекательный брат Синий Плащ», посмертно 1700; «Влюбленный австриец», поем. 1704). В ряде произведений такая перестройка заходит столь далеко, что нельзя говорить о следовании какому-либо традиционному жанру, — такова «Знаменитая лекарня для дураков» (1681), но прежде всего — пространная дилогия «Немецкие Зимние Ночи» (1682) и «Занимательные Летние Дни» (1683).
В «Лекарне для дураков» Беер создал образ лежебоки, который но уровню своей обобщенности приближается к мировым достижениям литературы (вроде образа Обломова). Бееровский дворянин, Лоренц За-Лугом, стремится вести не просто «животное» существование, но как бы раствориться в окружающей среде, получая от нее только приятные осязательные ощущения. Этот Лоренц — словно хтоническое существо, добродушное и беззлобное, но способное ради удовлетворения прихотей на далеко не безобидные проказы. Это человек, чуждый религии и лишенный какой-либо потребности в ней (это в условиях XVII века!): «Что мне до религии, религий так много, что сами ученые не могут в них разобраться. Мне сначала надо бы стать большим дураком, чтобы заботиться об этом»). Вместе с тем ему дан ясный ум и способность четко формулировать свои принципы. Он знает, по его словам, что такое «настоящий душевный покой». Есть у него и принципы, намного превышающие потребности личного удобства, и это, можно сказать, уже принципы общего «душевного покоя». Так, он решительно протестует против заимствования чужих нравов и мод: «Если вы, как вы утверждаете, немцы, так к чему французские гримасы в вашем разговоре? Немец немец, а француз француз. Если вы будете говорить, как французы, что же вы будете за немцы. <…> Простота немецкого — вот наилучшая мудрость, если бы мы достигли такой прост оты, ни один афинский философ не совладал бы с нами.
Но поскольку дураки привыкли верить иностранцам больше, чем себе самим, их и погубили и довели до крайности собственные же мнения». Образ Лоренца — удивительно целен и загадочно многогранен. Это — отнюдь не «отрицательный» персонаж, но, так сказать, человек, поставивший своей сознательной целью изведать самое дно материального бытия, погрузится в почти бессознательное пребывание и научиться самому и научить других душевному покою. Это — отшельничество наоборот, построенное не на аскетическом стремлении к высшему идеалу, а на жизнелюбивом углублении в плотски-материальную стихийность жизни, когда, как и отшельник, человек совершенно обособляется, утрачивает потребности и обретает невозмутимость духа.
Дилогия Беера развертывает это содержание в более сложных формах. Жизнь австрийского сельского дворянства, в среде которого оказывается герой романа (бродяга, который устанавливает затем свое дворянское происхождение), может быть, и не точно отражает культурную жизнь этого круга в конце XVII века. Эта жизнь с ее бездуховностью и недалекими развлечениями скорее разворачивает душевный комплекс Лоренца За-Лугом: и в ней тоже есть поиски стихийности и окончательного покоя и вместе с тем решительно все представлено как относительное. Героев романа увлекает даже игра в отшельничество — но и она лишь эпизод их жизни. В отличие от Гриммельсхаузеновского Симплиция, герои Беера не могут остановиться на какой-либо ступени своих исканий, и их жизнь разливается вширь, не сводимая воедино каким-либо духовным началом. Оба романа мастерски сложены из вплетаемых в незамысловатую фабулу отдельных рассказов действующих лиц. Обычно считают, что Беера не очень волновали острые проблемы его времени. Видимо, это не совсем так: как очень внимательный наблюдатель жизни, схватывающий на лету ее тенденции, Беер, вероятно, точно передал некоторую общую тенденцию жизни и быта провинциального дворянства. Именно такую общую тенденцию, которая заметна вплоть до начала XIX века и выразилась в «Недоросле» Д.И. Фонвизина, в «Пане Халявском» Г.Ф. Квитки-Основьяненко (1839), которая отмечена в ряде повестей Н.В. Гоголя, то есть в произведения, которые внешне никак не связаны с романами Беера. Подобные подспудные связи крайне знаменательны, они говорят о том, что писателю удалось воспроизвести, показать фундаментальный пласт социального устройства жизни. Причем, разумеется, писатель конца XVII века не задавался целью изобразить именно быт дворянства — он в своих героях видел известную общекультурную проблематику, общечеловеческие темы и воспроизводил все это с несомненной проницательностью и беспрецедентным вхождением в мир реальных вещей. Барочный аллегоризм ставится этими произведениями под вопрос, и писатель, словно сам себе не веря, приступает к описанию вещей и событий ради них самих. При этом неожиданно оказывается, что и такое описание способно заключить в себя какую-то загадочную, еще не изведанную глубину.
Разумеется, у романов Беера не было в литературной истории никакого прямого продолжения ни в Германии, ни в Австрии. В Германии также необыкновенные ростки нового были затоплены педантичным и бесплодным рационализмом, а в католической Австрии они просто и не могли прорасти, — потребовалось поистине исключительное стечение обстоятельств, чтобы вся накопившаяся в австрийской культуре свежесть и мягкость обращения с вещами, осязательная плотность мироощущения и тонкость изощренно острого ума были в буквальном смысле слова вывезены из Австрии, освобождены из под тяжести громоздкого здания традиционных ценностей и выражены талантливым и вольным — устным по существу своему — писательским словом.
Источник: Машинописная копия (архив A.B. Михайлова). 26 л. Авторские пагинация и рукописные пометки (исправления опечаток и текста).
Австрийская литература XVIII века
Австрийская литература, как и вся культура, находилась в течение XVIII века в сложном положении. Ее специфические черты, постоянно осуществлявшееся в австрийской культуре единство искусств (их «синтез»), ее способность схватывать реальную действительность непосредственно, непредвзято, — все это в условиях XVIII века не могло развиваться вольно, все это подвергалось резким нападкам со стороны проникавшей из-за рубежа просветительски-рационалистической идеологии. Это относится и к взаимоотношениям австрийской культуры с рядом немецких земель (Пруссия, Саксония), где рационализм пустил глубокие корни и где под его знаменем велась решительная борьба со всем культурным наследием барокко (и в первую очередь именно в литературе, поэзии, театре). Поскольку Пруссия и Саксония обладали еще и несомненным экономическим перевесом над южными германскими землями, своеобразное и притом ускоренное развитие их культуры могло рассматриваться как преимущество и как норма для развития культуры вообще. На протяжении XVIII века происходит определенное взаимодействие австрийской традиции с идущими из немецких областей новыми веяниями, причем в процессе такого взаимодействия австрийская поэтическая традиция не только постоянно перестраивается и меняется, но и обретает, находит себя. Такой процесс перестройки занял значительно более века: лишь в первых десятилетиях XIX века австрийская поэтическая традиция предстает как нечто устоявшееся, как прочная почва, на которой, наконец, могут возникать и подлинные литературные шедевры. А весь XVIII век занят этим взаимодействием, которое очень часто происходило на довольно мелком уровне: постоянно создается впечатление, что австрийская поэтическая традиция все время утрачивает себя, что рационализм подрезывает ей корни. И действительно, столкновение барочного полнокровного стиля с трезвым и бесплодным рационализмом лейпцигского направления (Готшед) или прусского толка создает как бы шок, от которого австрийская литература долго не может оправиться.
В итоге все последующие течения немецкой литературы усваиваются ею с большим опозданием — так, тонкое и роскошное немецкое рококо К.М. Виланда, сентиментализм, творчество Гёте и т. д. Все это с трудом и со значительным запаздыванием находило свой путь в Австрию, причем именно потому, что конфликт барокко и рационализма, барокко и просвещения все еще продолжался здесь, — еще в конце XVIII века ведется спор этих двух «начал», и как раз зрелая литература XIX вырастает на творческом преодолении этого спора (который в иных областях Германии воспринимался как нечто архаическое), На деле такой спор был тем актуальнее, что государственные и церковные реформы (1780–1790) императора Иосифа II представляли целую систему «государственного просветительства», опиравшегося на мировоззрение рационализма и пытавшегося на его основе, впрочем крайне противоречиво и путанно, перестроить и укрепить абсолютистское государство. С этого времени берет начало типично австрийская, в целом прогрессивная идеология «йозефинизма», боровшаяся с реакционными тенденциями политики Франца I (правившего в 1792 1835 годах <см. именной указатель>). Эта идеология тоже увековечивала рационализм на австрийской земле. В целом австрийская национальная традиция складывается именно во взаимодействии с просветительским рационализмом, но в таком взаимодействии сохраняет и выявляет черты своей народности. Народность австрийской литературы — это свойство существенно отличает ее от большинства явлений немецкой литературы XVIII XIX веков.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное : Феноменология австрийской культуры"
Книги похожие на "Избранное : Феноменология австрийской культуры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Михайлов - Избранное : Феноменология австрийской культуры"
Отзывы читателей о книге "Избранное : Феноменология австрийской культуры", комментарии и мнения людей о произведении.