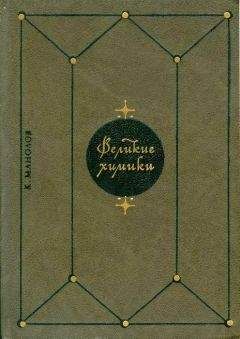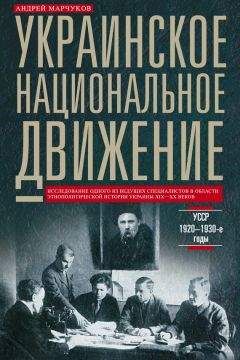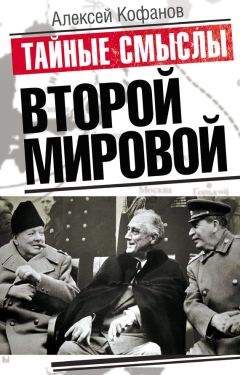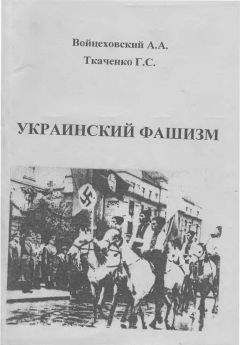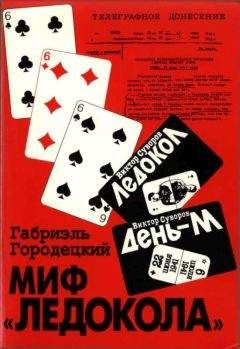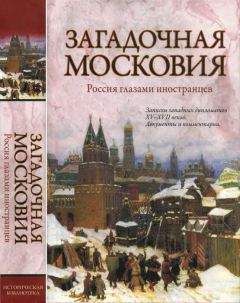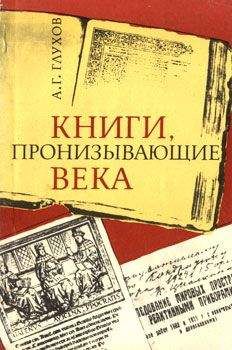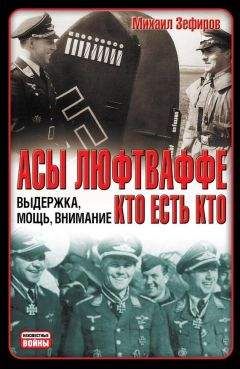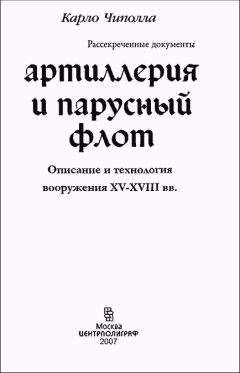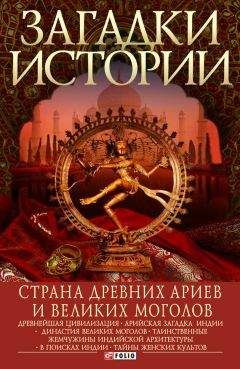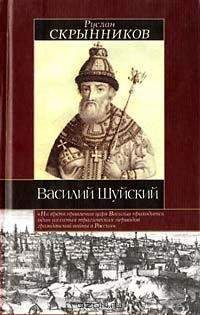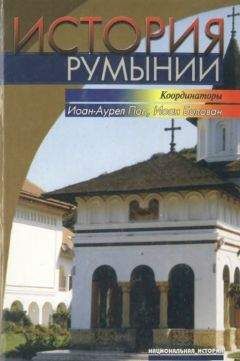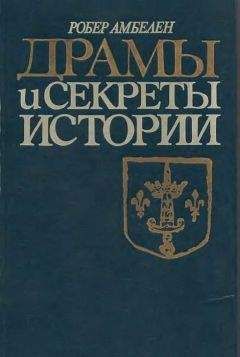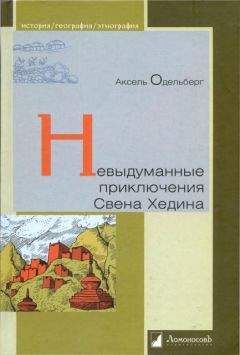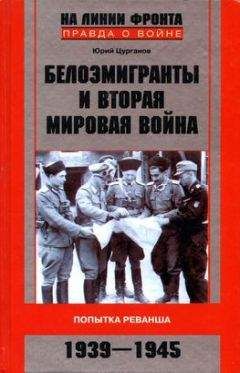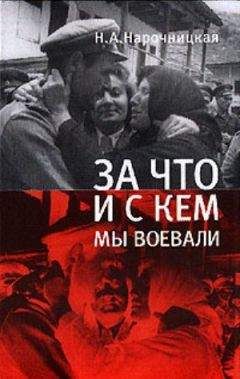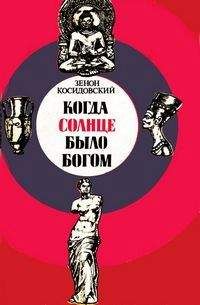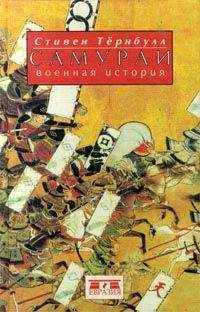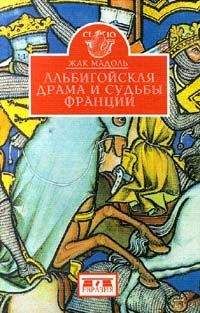Александра Ленель-Лавастин - Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран
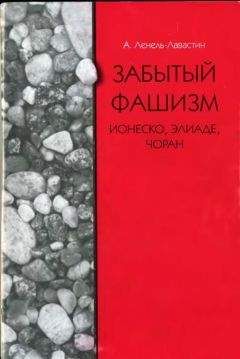
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран"
Описание и краткое содержание "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран" читать бесплатно онлайн.
Национальный вопрос особенно болезнен для стран, претерпевших национальное унижение. Таким унижением было поражение фашистской Румынии во Второй мировой войне. Одним из способов восстановления национального престижа является воздвижение на пьедестал исторических героев нации. Для Румынии ими стали выдающийся ученый М. Элиаде, известный публицист Э. Чоран и драматург с мировым именем Э. Ионеско.
Автор книги, не умаляя их профессиональных заслуг, сосредоточивает внимание на социально-политических взглядах, гражданской позиции в трагичные для страны годы фашизма. Доказывая на огромном фактическом материале их профашистские настроения, А. Ленель-Лавастин предостерегает современные поколения от некритической эйфории в отношении «великих румын», способной объективно привести к поддержке обретающего силу неофашизма.
Книга написана живым, ярким, нередко полемичным языком и предназначена для широкого круга читателей.
В самом деле, можно выдвинуть предположение, что в данном случае мы сталкиваемся «с упрямой попыткой слить воедино личную историю, деятельность преподавателя, творчество романиста». Причем попыткой неявно выраженной. Именно так тонко заметил бывший ученик Элиаде, Пьер Боржо[878]. Таким образом, с одной стороны, это целенаправленное действие по сведению своей жизни к своему творчеству; он пытается таким путем растворить некие ее неудобные моменты в более-менее мифических сценариях. При этом зачастую этапы прожитой жизни — детство, первые опыты юности и ее первые испытания, новая жизнь в изгнании, признание — он обряжает в такие (женские) наряды, которые превращают их в настоящие сцены посвящения. Заметим, однако, что стареющий историк словно и сам во всем этом немного теряется: он искусно смешивает реальность и миф, однако у читателя порой возникает ощущение, что сам Элиаде уже не понимает, где именно он находится. Его разоблачают собственные замечания в «Дневнике» по поводу выхода в свет его книги бесед в издательстве «Бельфон» в 1978 г. Элиаде замечает, что во время диалога с К.-А. Роке он вдруг почувствовал, «что оказался в сказочном прошлом», — судя по примененным терминам, он никак не ощущал себя виновным; что годы жизни в Румынии навсегда сохранятся в его памяти «в мельчайших подробностях», — что доказывает, что здесь мы сталкиваемся с умышленной ложью; но что в то же время он начинает видеть в том времени «личную мифологию, а не мою жизнь — такую, какой она была на самом деле»[879]. По всей видимости, Элиаде переживая кризис когнитивного диссонанса, приукрашивает свое прошлое, но помнит обо всем очень точно. Этот кризис он временно разрешает, раздувая басню. Все это помогает лучше понять другую сторону его действия. Элиаде пытается сделать из своей жизни произведение — а жизнь в какой-то мере ему мстит. Налицо множество перехлестов, словно очень многое, выброшенное из его творчества, возвращалось назад — без ведома автора.
Поразительные примеры таких перехлестов, неуместных плодов подсознания — это священное, а также образ Улисса, которого Элиаде считает своим хранителем; по убеждению историка, именно этот образ определяет его наилучшим образом, одновременно в более широком смысле являясь прототипом человека. Почему именно Улисс? Отнесемся к предлагаемому ответу максимально внимательно. «Потому что это образ преследуемого путника, — отвечает Элиаде. И продолжает словно рассказывая о себе: — Его путь был путем к центру, к Итаке, т. е. к самому себе. Он был хорошим мореплавателем, но судьба, т. е. испытания при посвящении, которые ему следовало выдержать (иными словами, деятельность Элиаде в рядах легионеров), заставляют его постоянно откладывать возвращение к родному очагу». Под родным очагом понимается не только Румыния, но и истина. Послушаем продолжение: Элиаде, попадая в опасную область, симптоматично переходит от «я» к «мы» и — странно — вдруг переключается на будущее время, словно чтобы отвлечь внимание читателя от прошлого. «Я полагаю, что миф об Улиссе имеет для нас большое значение. Мы будем все немного Улиссами, пустившись на поиски самих себя, надеясь на возвращение, а затем, конечно, обретая родину, дом, обретая себя. Но во время любого паломничества существует риск потеряться, словно блуждая в лабиринте». И еще одна фраза, последняя в отрывке, но основополагающая для понимания текста: «Тот, кому удастся выбраться из лабиринта, вернуться к своему очагу, — становится другим существом»[880]. Короче говоря, Элиаде — это анти-Улисс, и какой-то части его существа это известно: он приговорен никогда не выйти из лабиринта, по той простой причине, что предпринятое им биографическое и научное действо как раз и направлено на то, чтобы мы заблудились там и никогда не вышли к сердцевине, т. е. как раз к тому месту, где и развертываются реальные события его собственной истории. Именно поэтому он никогда и не станет другим человеком и всю свою жизнь будет упираться в прошлые догмы — в том числе, как мы покажем ниже, и в догмы политические.
Элиаде почти мог бы сказать — как Ионеско в «Настоящем прошедшем», — что, когда он хочет поведать о своей жизни, он рассказывает о блужданиях. Однако Элиаде так не говорит. А ведь Ионеско вообще следует себя упрекать в гораздо меньших прегрешениях, и блуждания, о которых он нам рассказывает, происходят «в безграничном лесу», где за каждым деревом скрывается новое... Лес Элиаде — это «Запретный лес»; под таким названием он выпустил в 1955 г. роман — явно автобиографический, но опять-таки в значительной мере лживый. И стоит ли этому удивляться? Упоминания об Улиссе и лабиринте — еще один в высшей степени существенный перехлест: в самом деле, почему Элиаде соединяет воедино эти два образа? Ведь о лабиринте рассказывается вовсе не в мифе об Улиссе, а в истории Минотавра. Как известно, Минос построил лабиринт, чтобы поселить в нем своего сына, чудовище, получеловека, полубыка, питавшегося человеческой плотью. Минос принудил Афины ежегодно платить ему дань — юношей и девушек, которых скармливали Минотавру. Это неявное возникновение идеи человеческого жертвоприношения — образа, который встречается у Элиаде в других местах применительно к Холокосту, — тем более интересно, что миф о Минотавре — еще и миф о забвении. В самом деле, вскоре Тезей, сын царя Афин Эгея, сразит Минотавра, а затем сумеет и выйти из лабиринта благодаря нити Ариадны. Но, возвращаясь домой, он дважды испытает забвение. Первый раз — на острове Наксос, где спасшиеся сделают остановку; там Тезей позабудет Ариадну. Второй раз — когда, вместо того чтобы поднять белые паруса, как просил его отец, Тезей приблизится к Афинам под черными парусами. Охваченный отчаянием, его отец Эгей бросится в море, которое с тех пор называется его именем. Поиск правды о самом себе, Катастрофа, забвение, смерть: переплетение этих четырех тем исполнено глубокого смысла.
Еще одна большая тема, пронизывающая творчество Элиаде, — тема Истории, которая в его изображении выступает имманентно несчастливой. Эта постоянно отрицательная оценка исторического времени, граничащая с отвращением, является, кроме всего прочего, еще и одной из немногочисленных областей, в которой Элиаде сходится с Чораном. Для них обоих История — это место упадка, вырождения: Чоран считает ее «отвратительной штукой»[881]; Элиаде — по преимуществу царством бессмыслицы и небытия, синонимом мира, утратившего свою святость, отданного на откуп науке и технике. Уже основная часть IV главы самого программного эссе Элиаде, «Мифа о вечном возвращении», опубликованного в 1949 г. и в основном написанного в годы Второй мировой войны, посвящена базовой категории «ужаса истории» — автор постоянно к ней возвращается, постоянно ее развивает. В этом эссе Элиаде выражает свое неприятие современного историцизма, характеризующегося тенденцией к завышенной оценке исторического события. И это — связь здесь очевидна — в тот самый момент, когда, как мы видели, он безумно боится, что его деятельность как активиста ультранационалистического движения будет разоблачена. Современный подход характеризуется стремлением видеть в истории самоценность; в противопоставление ему румынский интеллектуал предпочитает настаивать на том, что истории свойственны страх и ужас. Он высмеивает иллюзорность той свободы делания истории, которой кичится современный человек. Давайте посмотрим на Юго-Восток Европы, предлагает Элиаде. Как оправдать (обосновать), что ему «пришлось веками страдать и, следовательно, отказаться от всех поползновений к высшему историческому существованию, к духовному творчеству общего плана — по той единственной причине, что он оказался на дороге азиатских завоевателей, а затем — на границе с Оттоманской империей?»[882]. Хотелось бы ему ответить, что подход румынских элит исторически, вероятно, не совсем чужд тому гнусному проклятию, которое, как видит Элиаде, продолжает действовать и в XX веке. А затем следовало бы отослать его к солидному труду американского этнолога Рут Бенедикт, опубликованному, кроме того, издательством Чикагского университета под названием «Как видится румынам их собственная история». Американский этнолог отмечает, в частности, склонность румын сводить свою историю к долгой борьбе со сменявшими друг друга завоевателями за сохранение своих языка и национальной идентичности; вообще, приписывать все беды своей страны господству чужаков, а все улучшения в своей жизни — считать следствием национальной независимости. Рут Бенедикт заключает свою работу следующими словами: «Румыны странным образом склонны искать себе исторические оправдания, но они крайне неохотно признают свое бессилие, свои ошибки и провалы»[883].
Элиаде, конечно, свободно обращается с пером, но ему становится гораздо труднее, как только дело касается упомянутых оправданий; тогда он ищет их «по ту сторону» истории. В этом состоит большое преимущество его понятия «ужаса истории», иными словами, идеальной истории — с его точки зрения интеллектуала, тяжко скомпрометированного активным участием в двух исключительно кровавых национальных революциях, сперва в революции Железной гвардии, а потом — в революции маршала Антонеску; идеальной постольку, поскольку в ней не было ни действующих лиц, ни ответственных, ни исполнителей, ни жертв. Человек, писал Элиаде, «падает в историческое существование», — и здесь мы обнаруживаем мотив, который на много лет опередил «Падение во времени» Чорана (1964), принадлежавшее к числу произведений, особенно дорогих автору. Более того, писал Элиаде, если человек ни в коей мере не несет ответственности за свои действия, поскольку его свобода делать историю — нулевая, он должен по крайней мере сохранить свободу «стереть воспоминания о своем падении в историю и заново попробовать найти окончательный выход из времени»[884]. В этом выражена вся суть мифа о вечном возвращении и повторяющихся через равные промежутки времени обрядов возрождения, неотделимых от концепции цикличности времени. Данный подход Элиаде ближе всего, и это понятно.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран"
Книги похожие на "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александра Ленель-Лавастин - Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран"
Отзывы читателей о книге "Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран", комментарии и мнения людей о произведении.