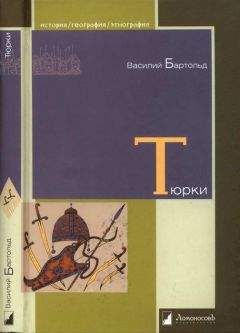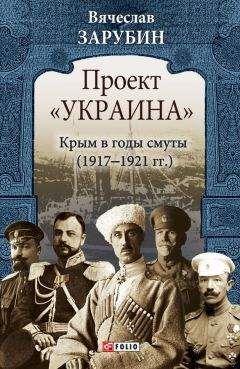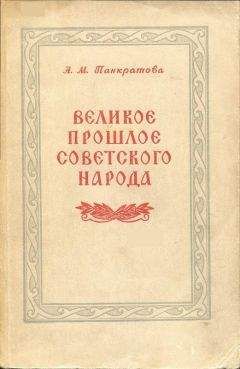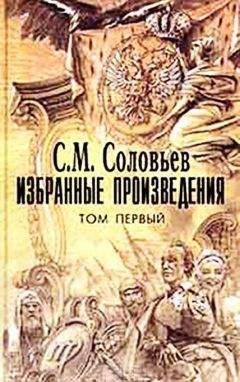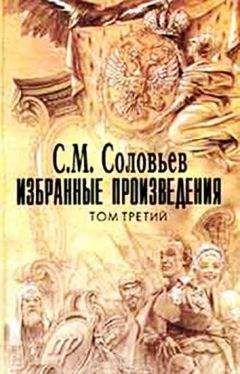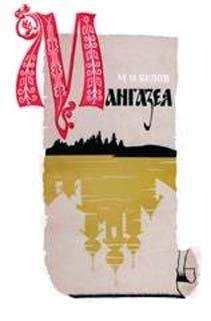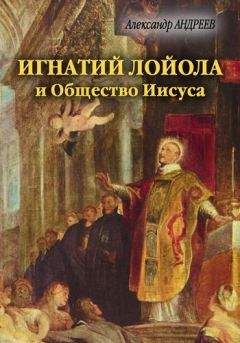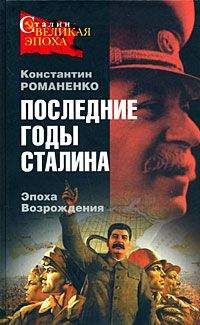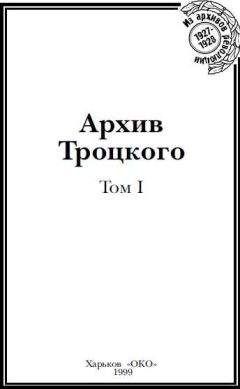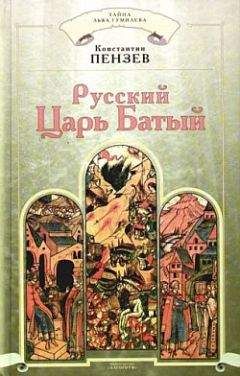Игнатий Крачковский - Над арабскими рукописями
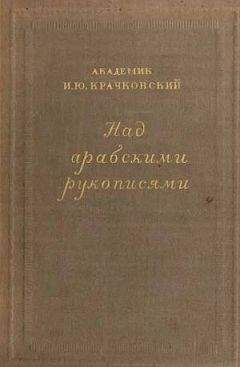
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Над арабскими рукописями"
Описание и краткое содержание "Над арабскими рукописями" читать бесплатно онлайн.
Игнатий Юлианович Крачковский (4 (16) марта 1883, Вильна – 24 января 1951, Ленинград) – советский арабист, академик АН СССР (с 1921). Один из создателей школы советской арабистики.
Игнатий Юлианович родился в семье директора Учительского института в городе Вильно Юлиана Крачковского. Уже в детские годы проявлял интерес к восточным культурам, самостоятельно изучал восточные языки.
С 1901 по 1905 годы обучался на факультете восточных языков Петербургского университета и закончил там курс арабско-персидско-турецко-татарского.
И.Ю. Крачковский руководил Русским географическим обществом и Институтом востоковедения.
Достижения
Перевёл на русский язык Коран.
Автор более 450 опубликованных трудов.
Стал редактором первого полного издания «1001 ночи» на русском языке.
Главные труды: «Поэтическое творчество Абу-л-Атахии» («Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества», т. XVIII); «Arabica» («Византийский Временник», т. XIII—XIV); «Мутанабби и Абу-л-Ала» («Записки Восточного Отделения», т. XIX); «Новозаветный апокриф в арабской рукописи» («Византийское Время», т. XIV); «Восточный факультет университета святого Иосифа в Бейруте» («Журнал Министерства Народного Просвещения», 1910); «Легенда о святом Георгии Победоносце в арабской редакции» («Живая Старина», т. XIX); «Поэт корейшитской плеяды» («Записки Восточного Отделения», т. ХХ); «Исторический роман в современной арабской литературе» («Журнал Министерства Народного Просвещения», 1911); «Abu-Hanifa ad-Dinaweri» (Лейден, 1912); «Хамаса Бухтури и ее первый исследователь в Европе» («Записки Восточного Отделения», т. XXI); «Из эфиопской географической литературы» («Христианский Восток», т. I); «Из арабской печати Египта» («Мир Ислама», т. I); «К описанию рукописей Ибн-Тайфура и ас-Сули» («Записки Восточного Отделения» т. XXI); «Одна из мелькитских версий арабского синаксаря» («Христианский Восток», т. II); «Арабские рукописи городской библиотеки в Александрии» («Записки Восточного Отделения», т. XXII) «Абу-л-Фарадж ал-Вава Дамасский. Материалы для характеристики поэтического творчества» (Петроград, 1914).
Основополагающие сочинения Крачковского по новоарабской литературе и истории арабской культуры конца XIX – начала XX века положили начало исследованиям в данной области как в СССР, так и европейских и арабских странах.
Автобиографическая книга Игнатия Юлиановича «Над арабскими рукописями» (1949) была переведена на ряд иностранных языков, в том числе арабский, и удостоена Сталинской премии (1951).
Труд Крачковского «История географической литературы у арабов» был издан Лигой арабских государств в 1963 году.
Был награжден двумя орденами Ленина.
Вести об арабских рукописях стали долетать до Ленинграда раньше, чем вернулась экспедиция. Характер их был таков, что мой скептицизм мало допускал возможность ценной находки. Говорилось, что они на коже, а ведь арабских документов на коже во всем мире до сих пор известно только шесть; трудно было допустить, что именно в Таджикистане, а не в арабских странах, произойдет неожиданное увеличение этого числа. Мне думалось, что это скорее листок из какого-нибудь пергаменного Корана; он, конечно, может быть интересен, но особой редкости не представляет. Такую мысль поддерживало и письмо начальника экспедиции, моего старшего товарища по студенческим годам на факультете, А.А. Фреймана, который между прочим сообщал, что при раскопках экспедиция нашла крошечный кусочек кожи, где ясно стояло арабское „ля илях.. “ (нет божества…), очевидно, обрывок обычного мусульманского исповедания веры. Правда, доходили слухи, что смотревшие документ в Средней Азии видели там имя Тархун, а так звали одного крупного согдийского правителя эпохи арабского завоевания, но я склонен был относить это к некоторому увлечению, простительному для желающих связать находку с местной историей.
Все же мое любопытство было сильно задето, и я старался получить фотографию с рукописи, но это почему-то не удавалось сделать в Средней Азии. Возникли какие-то своеобразные „междуведомственные“ трения по поводу того, кто должен считаться владельцем всех этих рукописей, где следует их хранить, кому поручить обработку. По счастью, в конце концов, рукописи приехали в Ленинград и, хотя здесь тоже некоторое время колебались в каком помещении их можно изучать, все-таки в январе 1934 года я узнал, что они находятся временно в рукописном отделении библиотеки Академии Наук. Я был болен, в жару, но конечно не мог дольше вытерпеть и на другой же день направился к зданию Академии годами знакомой дорогой по Университетской набережной. Я шел не один, со мной была жена; за последние десять лет она настолько погрузилась в тайны арабской палеографии и эпиграфики, что давно уже читала куфический шрифт лучше меня и мы с улыбкой вспоминали, как четверть века тому назад, показывая нам каирские мечети, даже местные ученые арабы на вопрос о какой-нибудь надписи, с изумлением отвечали: „Но ведь это по-куфически; это нельзя прочесть!“ Теперь ее графические дарования и острый глаз нередко помогали мне разбирать отдельные начертания рукописи, остававшиеся для меня неясными, несмотря на все знание арабского языка, претендовать на которое годы, казалось бы, давали мне права.
В нижнем этаже библиотеки, в рукописном отделе мы застали уже за большим столом „пана“ А.А. Фреймана, как привыкли его звать со времен студенчества. Он был погружен в согдийские не то письма, не то „палки“, вывезенные экспедицией, и имел достаточно „отсутствующий“, хотя как всегда солидный вид, с круглыми, очками, поминутно перемещавшимися на лоб. Он уже приготовил для нас конверт и вытащил оттуда документ, присматриваясь, какое впечатление на нас он производит. С первого взгляда я почувствовал себя совершенно уничтоженным: от жару или волнения вся кровь бросилась мне в голову, в глазах рябило; я беспомощно держал в руках насквозь изъеденный червями кусок сморщенной кожи, на котором точно через красную пелену видел только отдельные арабские буквы и не мог различить ни одного связного арабского слова. Сердце забилось, как будто стремясь выскочить из груди, и первой ужасной мыслью было: „Я ничего не разберу!“ Однако моментально стало стыдно, и большим усилием воли я заставил себя взглянуть вторично, но убедился, что пристально всматриваться не могу: глаза сейчас же начинал застилать красный туман. Напрягая всю волю, с какими-то нервными толчками в ритм пульсирующей крови, я стал всматриваться то в одно, то в другое место документа, будучи не в силах задержать взор на чем-нибудь длительно. Мысли лихорадочно вспыхивали при каждом толчке, и я бессознательно шептал их вслух: „Да, в первой строчке остатки обычной начальной формулы «басмаля» – во имя Аллаха… Значит, это начало чего-то, а не вырванный из середины листок… Вот в центре, в самом деле, имя Тархун… Конечно, это не Коран… Но что же такое?“ – мучительно, беспомощно бьется мысль, а кровь все сильнее пульсирует в ушах. „Письмо? Вот, вот в конце второй строчки точно стоит «от… клиента его»… но имя, имя? «а Дива», «Дива» – ясно стоит «аДива» с долгим и долгим, а что за чепуха, какое это имя! А следующая строчка начинается еще хуже – ведь ясно читается «аситти», но его не может быть в литературном языке: «аситти» употребляется только в разговорном и значит «госпожа моя», при чем все это здесь? Конец одной строки «Дива», начало следующей «ситти».. И вдруг опять толчок пульса: „А может здесь перенос одного слова? Ведь бывает же это в арабских папирусах из Египта: Диваситти… Дивасти… Нет такого имени!.. Вот Тархун упоминается же в литературе о Средней Азии, а никакого Дивасти там нет… Что за дьявольщина, ведь ясно стоит Дивасти…“ „Александр Арнольдович, – обращается недоуменно моя спутница к А.А. Фрейману, – у Вас в согдийских документах нет какого-то Дивасти?“ Фрейман вздрагивает, очки перемещаются на лоб, с растерянным изумлением он, наконец, говорит: «Не-ет… но всюду поминается что-то вроде Диванестич, верно что-то связанное с Диван – канцелярия, может быть какой-нибудь титул…“ „Да нет здесь в арабском буквы н, – уже кричу я, – просто Дивасти, Дивасти!…“ Вдруг меня пронизывает новая мысль, я срываюсь со своего стула и убегаю, к полному недоумению сидящих за столом и молодого ираниста, который зашел за чем-то к Фрейману и остолбенел от моего невменяемого вида и странного диалога. Я мчусь для быстроты по боковой лестнице в восьмой этаж, где помещается Институт востоковедения и арабский кабинет; там на полке стоят двенадцать томов нашего главного историка ат-Табари и у меня мелькнула надежда, вдруг у него я найду разгадку всплывшего имени. Хорошо, что ни на лестнице, ни в кабинете я никого не встретил: я чувствовал, что вид мой может напугать, а я не в состоянии был членораздельно объяснить, что со мной происходит.
Задыхаясь от бега, я кинулся к хорошо знакомой полке, и, выхватив указатель к ат-Табари, лихорадочно стал его перелистывать в поисках похожего имени. В глазах у меня двоилось, но все же я пробежал все начертания на Д почти до конца буквы. „Нет Дивасти“ – упало у меня уныло сердце. И вдруг несколькими строчками ниже мелькнуло передо мною „Дивашни“. „Да ведь, разница только в точках!“ чуть не крикнул я, – „это одно и то же!“ Не веря себе, я стал перелистывать по самой истории страницы, на которые ссылался указатель; сомнений быть не могло – там речь шла о Средней Азии и описывались события начала сотых годов хиджры. Вчитываться сразу я был не в состоянии, никаких колебаний больше не оставалось, внутри у меня все точно засверкало, и я так же стремительно помчался вниз; если бы я был лет на двадцать моложе, я бы наверное для быстроты съехал на перилах. Ворвавшись вихрем в рукописное отделение, я упал на стул и еле мог прошептать Фрейману, все еще не понимавшему причины моего внезапного бегства: „Дивасти нашелся!“ Это было до того неожиданно, что три пары недоумевающих глаз с каким-то испугом устремились на меня. Когда я, несколько отдышавшись, прерывистыми фразами объяснил в чем дело, торжество стало всеобщим: все сразу почувствовали, что находка осветилась и руководящая нить попалась в руки.
У меня после волнений всего дня сразу наступила реакция и я почувствовал полный упадок сил: я не мог больше в то утро заниматься документом. Но я оставался спокоен: предстояла еще очень длительная и сложная работа, однако я твердо знал, что нахожусь на верном пути и со следующего дня начал уже совсем в другом настроении планомерную теперь дешифровку письма параллельно с детальным изучением соответствующих страниц нашего ат-Табари. Только теперь я мог вглядываться спокойно в не пугавшие больше очертания; только теперь я мог оценить всю стройную красоту письма опытного канцелярского каллиграфа. Каждый день приносил теперь и радости и огорчения, маленькие открытия перемежались с разочарованиями, но все это не было уже страшно: смятый, слежавшийся в земле за двенадцать веков кусочек кожи не мог скрыть своих тайн от острого анализа палеографа, не мог отмолчаться при очной ставке с историком, показания которого сохранил бесценный свод ат-Табари.
Действительно, имя Дивасти послужило ключом ко всему: оно не только разъяснило арабское письмо, но подвело твердую базу для разработки согдийских документов. Дивасти оказался согдийским властителем, остатки архива которого и попались экспедиции на гору Муг. Разгаданное уже с гораздо меньшим трудом имя того арабского правителя, которому он адресовал свое письмо, неожиданно принесло совершенно точную дату документа сотым годом хиджры, около 718-719 года н.э. Буква за буквой были отвоеваны все фактические данные у письма. Быстро нашел себе место в документе и тот „выеденный“ кусочек с началом формулы исповедания веры, который был найден экспедицией отдельно от письма. Даже строчки, уничтоженные ненасытными червями, удалось в основном реконструировать. Рассматривая теперь фотографию разглаженного письма на коже, я сам недоумеваю иногда – как нам удалось не только разобрать строчки, от которых часто уцелела одна-две буквы, но и уловить какой-то смысл в том, что было съедено. Я чувствую гордость за нашу науку, точные методы которой позволяют находить иногда то, что на первый взгляд кажется безвозвратно погибшим.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Над арабскими рукописями"
Книги похожие на "Над арабскими рукописями" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игнатий Крачковский - Над арабскими рукописями"
Отзывы читателей о книге "Над арабскими рукописями", комментарии и мнения людей о произведении.