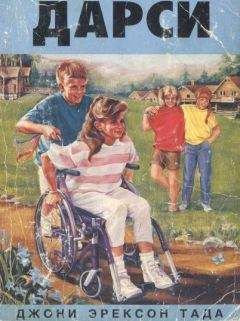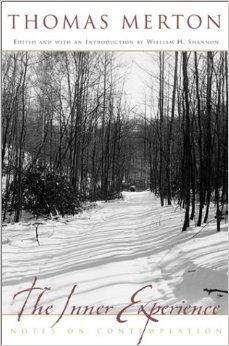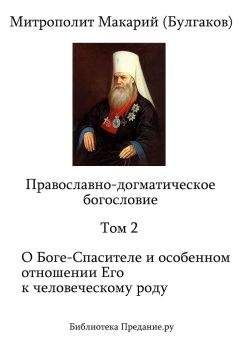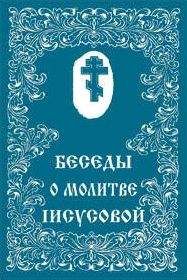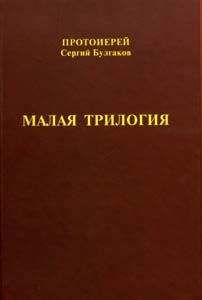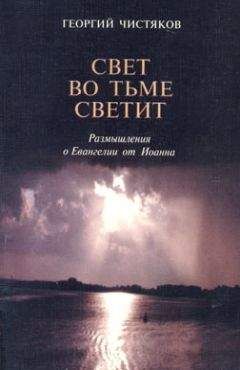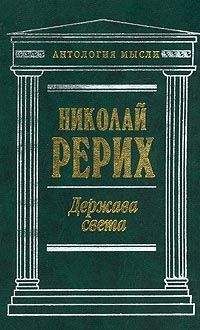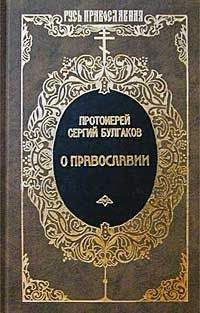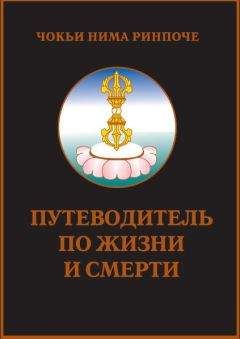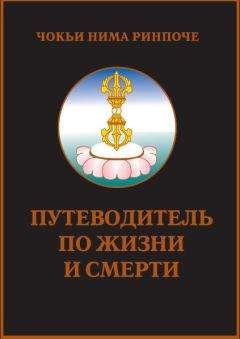С. Н. Булгаков - Свет невечерний. Созерцания и умозрения
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Свет невечерний. Созерцания и умозрения"
Описание и краткое содержание "Свет невечерний. Созерцания и умозрения" читать бесплатно онлайн.
Хозяйство, как связанное с проклятием земли, не имеет в себе эсхатологических задач, переходящих за грань смертной жизни этого века, к ней исключительно относится его область. Поэтому оно и не может завершиться в своих собственных пределах, а должно перерваться, подобно человеческой жизни. При этом не надо, однако, забывать, что и временность имеет свою глубину, тоже входящую в вечность, где время интегрируется, хотя сейчас и непостижимым для нас способом. Но в перспективе времени хозяйство есть дурная бесконечность, не знающая завершения. Насколько в хозяйстве и через хозяйство (понятое в широком смысле) творится история, постольку в нем и через него создается историческое тело человечества, которому надлежит «измениться» в воскресении, причем этим потенциальным телом для человека является весь мир. Хозяйственным трудом человек реализует для себя этот мир, устрояет свое мировое тело, реально его ощущает, осуществляя власть, изначально присущую ему. Даже и в роли хозяина человек сохраняет отблеск славы царственного Адама. Однако вследствие своего падения не столько он владеет миром, сколько мир им, ибо пелена материальности тяжело нависла над миром, и в «кожаные ризы» облечено его тело. Евангелие в области хозяйственного поведения указует как идеал не свободу в хозяйстве и через хозяйство, но свободу от хозяйства, оно призывает к вере в чудо вопреки мировой косности, увещает быть чудотворцами, а не механиками вселенной, целителями, а не медиками. Хозяйство же им только попускается, — оно мирится с ним как с тяготой жизни века сего, но не более. Все усилия экономизма силою вещей направляются к увековечению жизни этого века, к отрицанию конца жизни как отдельной человеческой личности, так и всего мира. Об этом по–разному говорят научные экономические, особенно социалистические, учения: под видом свободы в хозяйстве через умножение «богатства» они хотят упрочить хозяйственный плен человека, суля осуществить противоречивый идеал магической или хозяйственной свободы. Вот почему христианством в качестве высшей свободы восхваляется не мощь, но немощь, не богатство, но нищета, не мудрость века сего с его хозяйственной магией, но «юродство».
Итак, хозяйство на своем собственном пути не имеет эсхатологии, и, когда пытается вступить на ее путь, оно впадает в лжеэсхатологию, гонится за призраком, обманчивым и лживым. Эта лжеэсхатология коренится в неверной оценке хозяйства, в забвении об его условности и относительности. Наш век, отмеченный не только исключительным расцветом хозяйственной деятельности, но и экономизмом в качестве духовного самосознания, вместе с тем отличается и напряженным хозяйственным эсхатологиз–мом. Последний затемняет религиозное сознание не только уединенных мыслителей, но и народных масс, мистически оторванных от земли: таковы социалисты, ставшие жертвою неистовой и слепой лжеэсхатологии, по исступленности своей напоминающей мессианические чаяния еврейства в христианскую эру [918]. Ныне в мировой войне рушится эта вавилонская башня экономизма. Всякому, имеющему очи, чтобы видеть, становится ясно, что здесь терпит неудачу самая грандиозная из бывших до сих пор попыток ее сооружения. Еще раз не удалось магическое царство от мира сего, и как хорошо, что оно не удалось! Самым ходом исторических событий понуждаются люди хотеть иного царства [919], царства не от мира сего. «Новая история» не удалась, но именно этой неудачей, углубленным опытом добра и зла, подготовляется общий кризис истории и мироздания. И неудача всей мировой истории есть и самая большая ее удача [920], ибо цель ее не в ней, а за ее пределами, — туда зовет и нудит историческая стихия.
4. Искусство и теургия.
Искусство иерархически стоит выше хозяйства, ибо область его находится на грани двух миров. Оно зрит нездешнюю красоту и ее являет этому миру; оно не чувствует себя немотствующим и сознает свою окрыленность.
Как беден наш язык: хочу и не могу!..
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною:
Напрасно вечное томление сердец!
И клонит голову маститую мудрец
Пред этой ложью роковою.
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души и трав неясный запах [921].
И не просто закрепляет, но при этом еще и просветляет, преображает.
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи…
«Подари свою розу поэту» — и «в стихе умиленном найдешь — эту вечно душистую розу», ибо такова сила поэзии:
Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.
И это имеет силу, конечно, не о поэзии только, но вообще об искусстве. Он может увековечивать временное, зря его в свете вечности, красоты софийной. Сама красота, конечно, первее искусства («только песне нужна красота, красоте же и песни не надо»), но искусство, ее являющее, приобретает тем самым неисследимую глубину. Вширь и вглубь идут его ритмы, пробуждая все новые волны. Красота имеет в себе самой и силу, и убедительность. Сила искусства не в том, что оно само владеет красотой, но в том, что оно в своих художественных символах обладает ключом, отверзающим эту глубину: a realibus ad realiora! [922] Поэтому истинное произведение искусства не может оставаться замкнутым только в себе, в своей действенности оно зовет к жизни в красоте и пророчественно свидетельствует о ней. Поэтому и само искусство отнюдь не имеет самодовлеющего значения, оно есть лишь путь к обретению красоты. Оно жизненно только в этом движении, — всегда ad realiora. Поэтому оно само есть тоже лишь символ, зов, обетование, величавый жест, однако — увы! — упадающий в бессилии. Ибо искусство, наряду с царственным призванием, таит в себе еще и сознание своего бессилия. Оно знает свою границу и свою относитель-· ность и всегда должно ее ощущать:
Забудь меня, безумец исступленный.
Покоя не губи,
Я создана душой твоей влюбленной,
Ты грезы не люби.
О, верь и знай, мечтатель малодушный,
Что, мучась и стеня,
Чем ближе ты к мечте своей воздушной,
Тем дальше от меня.
Так говорит «мечта», поставленная пред лицо жестокой действительности, «прозы жизни», в ответ на призывы поэта. Все остается на своем месте: «Нет, силой не поднять тяжелого покрова седых небес». И не есть ли красота — сладкая иллюзия, а поэзия — греза, если искусство только волнует и манит к прекрасному среди непрекрасной жизни, утешает, но не преображает? Из этого самосознания рождается космоургическая тоска искусства, возникает жажда действенности: если красота некогда спасет мир, то искусство должно явиться орудием этого спасения. В каждом новом творческом акте все шире открывает художник свои объятия, но богиня ускользает из них манящим призраком, оставляя его в немом отчаянии готовым разбить свою певучую, но бессильную лиру. Если трагедия понимающего свои границы хозяйства состоит в сознании прозаичности, порабощенности, бескрылости своей, то трагедия искусства — в сознании своего бессилия, в страшном разладе между открывшейся ему истинной велелепотой мира и наличной его безобразностью и безобразием. Искусство не спасает, не утоляет тоски земного бытия, а только утешает, но нужны ли и достойны ли бессильные утешения? Произведениями искусства можно любоваться, влюбляться в них, но лишь для того, чтобы тем сильнее чувствовать цепи «презренной жизни». И нельзя их любить живой человеческой любовью, ибо изваянная Галатея в мраморной красе своей все же лишена теплоты мускулов и крови, есть подделка.
Каждый творческий акт стремится стать абсолютным не только по своему источнику, ибо в нем ищет выразиться невыразимое, трансцендентное всяким выявлениям ядро личности, — но и по своему устремлению: он хочет сотворить мир в красоте, победить и убедить ею хаос, а спасает и убеждает — кусок мрамора (или иной объект искусства), и космоургические волны бессильно упадают в атмосфере, тяжелой от испарений материи. Поэтому художник, даже если ему даны величайшие достижения в искусстве, тем большую неудовлетворенность испытывает как творческая личность [923]. Творчество есть кремнистый путь восхождения, где Симону Киренеянину возлагается на плечи, помимо его воли, тяжелый крест [924]. Можно освободиться от трагедии и отвергнуть крест Господень, отказаться от своего участия в самораспятии мирского, непросветленного я, но только ценою своеобразного духовного паралича личности. Вместо красоты тогда остается удовлетвориться красивостью и, влюбившись в нее, стать глухим к велениям творчества; из строгого и взыскательного искусства можно устроить свой особый, маленький мирок, по самому требовательному «канону» — и им удов. — летвориться. Эстетизм, как выражение такого примирения и самодовольства, есть наиболее тонкий соблазн духовного мещанства. Чтитель же красоты, не допускающий ее растления, все равно обладает ли он сам художественным даром или нет, никогда не может утолить своей жажды. Да и любит–то он искусство больше за эту жажду, чем за утоление.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Свет невечерний. Созерцания и умозрения"
Книги похожие на "Свет невечерний. Созерцания и умозрения" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "С. Н. Булгаков - Свет невечерний. Созерцания и умозрения"
Отзывы читателей о книге "Свет невечерний. Созерцания и умозрения", комментарии и мнения людей о произведении.