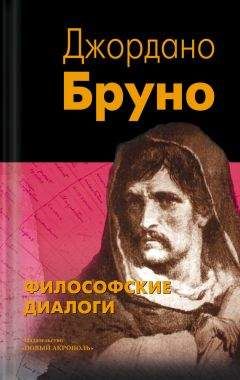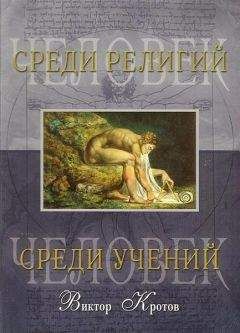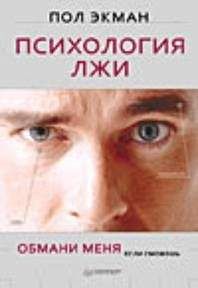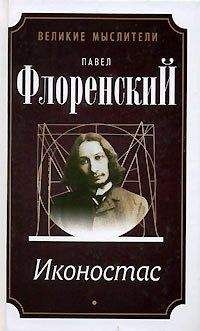Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба философа в интерьере эпохи."
Описание и краткое содержание "Судьба философа в интерьере эпохи." читать бесплатно онлайн.
Все написанное Михаилом Константиновичем проникнуто пафосом критики социального фетишизма, в условиях которого возникает убеждение, будто бы человек обязан различным институтам, знаковым системам и структурам всем, а сами они могут обойтись без человека, обладают способностью к саморазвитию. Такое убеждение порождает социальную пассивность, упование на "колесо истории", притупляет чувство личной ответственности за все, что делается здесь и теперь.
Петров Михаил Константинович
Историко-философские исследования.
М., 1996.
512 с.
Если снять с этого заявления мистический налет исторического самосозревания любви к знанию и призванности философа превратить эту любовь в деятельный процесс, в познание, в действительное знание, то за мистикой вскрываются вполне реальные попытки показать саму эту зреющую близость как процесс движения от начала к результату: "Истинное есть целое. Но целое есть только сущность, завершающаяся через свое развитие. Об абсолютном нужно сказать, что оно, по существу, есть результат, что оно лишь в конце есть то, что есть оно поистине; и в том-то и состоит его природа, что оно есть действительное, субъект или становление самим собою для себя" (Соч., т. IV, с. 10).
Эта мысль об истинно целом - субъекте - становлении самим собой для себя требует особого внимания, поскольку именно здесь Гегель выстраивает формальный скелет новой реальности творчества, здесь у него связь системной целостности переходит в связь исторической целостности, связь целое-части в линейную связь различенных моментов последовательности. Сама по себе идея целостности во времени, движения по упорядоченным моментам от начала к концу далеко не нова. У Аристотеля, например, она выражена в универсальной форме: "А целое есть то, что имеет начало, середину и конец. Начало - то, что само не следует по необходимости за другим, а, напротив, за ним существует или происходит по закону природы, нечто другое; наоборот, конец - то, что само по необходимости или по обыкновению следует непременно за другим, после же него нет ничего другого; а середина - то, что и само следует за другим, и за ним другое" (Поэтика, 1450 в). К тому же Аристотель далеко не первый, выделяющий эту целостность во времени в чистом виде. В античной философии она присутствует как один из реликтов мифологических универсалий, в согласии с которым все смертное и конечное, в том числе и космое, проходит жизненный цикл: рождение - расцвет - увядание - гибель. Мусей, например, пишет: "Как листья на ветви ясеня, одни распускаются и зеленеют, другие - вянут и опадают, так и племена и роды человеческие приходят и уходят" (Климент. Ковры, VI 5. р.738 Р). Та же схема и у Гомера (Илиада, VI, 146-149) и у многих других.
Эта близость Гегеля к древним, к представлению о живом и одушевленном у Аристотеля, о нусе-семенном уме у Анаксагора, о сперматическом логосе у стоиков, крайне важна, поскольку именно в этих представлениях античная философия вырабатывала законосообразные механизмы движения по времени, программировала такое движение в интегральную последовательность. Гегель любит ссылаться на древних, особенно на Аристотеля, как на выразителей более верного и потерянного новым временем взгляда на мир. К античной классике принадлежит и большинство аналогий, с помощью которых Гегель поясняет смысл самодвижения-саморазвития, свое энтелехиальное понимание субъекта и его действительности - энергии Аристотеля.
Гегель пишет о движении знания к науке: "Как здание не готово, когда заложен его фундамент, так достигнутое понятие целого не есть само целое. Там, где мы желаем видеть дуб с его могучим стволом, с его разросшимися ветвями, с массой его листвы, мы выражаем неудовольствие, когда вместо него нам показывают желудь. Так и наука, венец некоторого мира духа, не завершается в своем начале" (Соч., т. IV, с. 6). Само понятие саморазвивающегося субъекта вводится через традиционные аналогии и оказывается в прямой связи с энтелехией Аристотеля: "Хотя зародыш и есть в себе человек, но он не есть человек для себя, для себя он таков только как развитый разум, который превратил себя в то. что он есть в себе. Лишь в этом состоит действительность разума... Сказанное можно выразить и так, что разум есть целесообразное действование. Возвышение вымышленной природы над непризнанным мышлением и, прежде всего, изгнание внешней целесообразности подорвали доверие к форме цели вообще. Однако, следуя определению, которое уже Аристотель дает природе как целесообразной деятельности, цель есть (нечто) непосредственное, покоящееся, неподвижное, которое само движет, таким образом, это - субъект. Его способность приводить в движение, понимаемая абстрактно, есть для-себя-бытие или чистая негативность. Результат только потому тождественен началу, что начало есть цель, или действительное только потому тождественно своему понятию, что непосредственное в нем самом имеет в качестве цели самость или чистую действительность. Осуществленная цель или налично сущее действительное есть движение в развернутое становление, но именно этот непокой и есть самость, и она равна названной непосредственности и простоте начала потому, что она есть результат, то, что вернулось в себя; но то, что вернулось в себя, есть именно самость, а самость есть относящееся к себе равенство и простота" (там же, с. II).
Это противопоставление древнего имманентного и нового внешнего понимания абсолюта, источника движения как раз и образует у Гегеля демаркационную линию двух подходов к движению знания, двух оценок роли и функции абсолюта по отношению к движению знания: "Потребность представлять абсолютное как субъект пользовалась положениями: бог есть "вечное", или "моральный миропорядок", или "любовь" и т.д. В таких положениях истинное прямо устанавливается только как субъект, но не представляется как движение рефлексии в самое себя. Положение такого рода начинается со слова бог. Это слово само по себе есть бессмысленный звук, одно лишь имя. Только предикат говорит, что есть он, т.е. наполняет его содержанием и сообщает ему смысл. Пустое начало только в этом конце становится действительным знанием... Но этим словом обозначают как раз то, что установлено не вообще какое-нибудь бытие, или сущность, или всеобщее, а нечто рефлектированное в себя, некоторый субъект. Но в то же время это только предвосхищено. Субъект принимается за устойчивый пункт, к которому, как к своей опоре, прикрепляются предикаты - посредством движения, которое составляет принадлежность знающего об этом пункте и которое не считается принадлежностью самого этого пункта; а ведь лишь посредством такого движения можно было бы представить содержание как субъект. Имея такой характер, это движение не может быть принадлежностью самого субъекта; но в соответствии с предложением названного (устойчивого) пункта оно не может быть иным, оно может быть только внешним. Указанное предвосхищение, что абсолютное есть субъект, не только не составляет поэтому действительности этого понятия, но делает ее даже невозможной, ибо она устанавливает это понятие как покоящийся пункт, между тем эта действительность есть самодвижение" (там же, с. 11-12).
Вот здесь и начинается самое серьезное - совмещение антиномий Канта, отказ от разделения миров творчества и репродукции, слияние их в единую репродуктивно-творческую "самость" - автономный довлеющий себе, самораскручивающийся субъект самовоспроизводства (репродукция) и самообновления (творчество), обнаруживающий в самом себе все основания и критерии как для гомеостаза, в котором субъект ведет себя по правилам мира антитезисов как нечто неизменное, изъятое из пространства и времени, инерционное, бесповоротно детерминированное, так и для законосообразного изменения - преемственного развития, в котором субъект, не теряя целостности и опираясь на наличное, отрицая его, переоформляет собственное содержание, развертывает свою "самость" в наличную конкретность целостного бытия.
Момент этого перехода в самодеятельность виден: абсолют, который, по Гегелю, принимался за устойчивый пункт, за нейтральную вешалку предикатов, а само движение определения - навешивание предикатов - совершалось посредством внешнего движения, "которое составляет принадлежность знающего об этом пункте и которое не считается принадлежностью самого этого пункта", должен быть теперь понят в единстве опоры (устойчивый пункт, субстанция, сущность) и определения. При этом не совсем ясно, как именно, в каких пределах может быть взят этот устойчивый и самоизменяющийся совмещенный абсолют. Гегелевские аналогии с желудем, зародышем, фундаментом здания могут только указать на историко-философский генезис идеи преемственного развития-поступательности; она очевидным образом связана с реликтами мифа в античной философии (универсальный жизненный цикл всего смертного: рождение-расцвет-увядание-гибель), которые получили вторую жизнь в процессе "естественного" истолкования мира не на аристотелевской, а на демокрито-эпикурейской основе (естественная теология Гассенди, монадология Лейбница). Но сами эти аналогии оставляют в тени контуры того, что же именно, оставаясь абсолютом, ведет себя как "смертное", оказывается в состоянии проходить по этапам жизненного цикла, последовательность которых положена в начале как нечто неразвитое, "в себе", подобно дубу в желуде или программе в кибернетической машине.
У самого Гегеля мы не находим сколько-нибудь четкого определения этого абсолюта-субъекта, и, судя по неутихающим спорам вокруг Гегеля, таких определений может быть дано несколько от всеобщей тотальности развивающегося миропорядка, субъектом которого был бы бесспорно "живой бог" или "творящая природа", до простого "бога из знака" - хранителя целостности и преемственности развития той или иной содержательной научной дисциплины. Гегель не идет дальше субстанционально-функционального истолкования природы субъекта как творца реальности особого рода, а именно духовной реальности: "То, что истинное действительно только как система, или то, что субстанция по существу есть субъект, выражено в представлении, которое провозглашает абсолютное духом, - самое возвышенное понятие, и притом понятие, которое принадлежит новому времени и его религии. Лишь духовное есть то, что действительно, оно есть сущность или в-себе-сущее, оно есть то, что вступает в отношения, и то, что определено, оно есть инобытие и для-себя-бытие, - и в этой определенности или в своем вне-себя-бытии оно есть неизменное внутри себя; или оно есть в себе и для себя. Но оно есть это в-себе-и-для-себя-бытие только для нас, или в себе оно есть духовная субстанция. Оно должно быть тем же и для себя самого, оно должно быть знанием о духовном и знанием о себе как о духе, это значит, оно должно быть для себя в качестве предмета, но столь же непосредственно в качестве предмета снятого, рефлектированного в себя. Предмет для себя есть лишь для нас, поскольку его духовное содержание порождено им самим; поскольку же он и для самого себя есть для себя, то это самопорождение, чистое понятие, есть в то же время для него предметная стихия, в которой он имеет свое наличное бытие; и таким образом предмет в своем наличном бытии есть для самого себя предмет, рефлектированный в себя. Дух, который знает себя в таком развитии как духа, есть наука. Она есть его действительность и царство, которое он создает себе в своей собственной стихии" (Соч., т. 4, с. 12-13).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба философа в интерьере эпохи."
Книги похожие на "Судьба философа в интерьере эпохи." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи."
Отзывы читателей о книге "Судьба философа в интерьере эпохи.", комментарии и мнения людей о произведении.