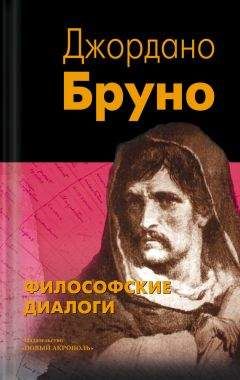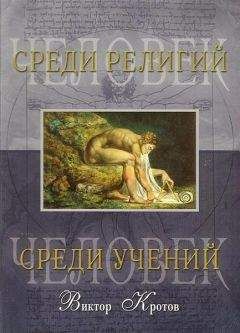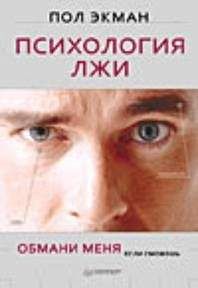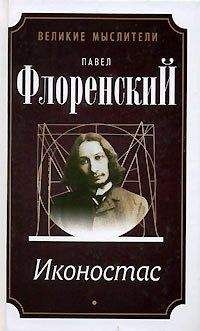Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба философа в интерьере эпохи."
Описание и краткое содержание "Судьба философа в интерьере эпохи." читать бесплатно онлайн.
Все написанное Михаилом Константиновичем проникнуто пафосом критики социального фетишизма, в условиях которого возникает убеждение, будто бы человек обязан различным институтам, знаковым системам и структурам всем, а сами они могут обойтись без человека, обладают способностью к саморазвитию. Такое убеждение порождает социальную пассивность, упование на "колесо истории", притупляет чувство личной ответственности за все, что делается здесь и теперь.
Петров Михаил Константинович
Историко-философские исследования.
М., 1996.
512 с.
Нам кажется, что основная трудность понимания ситуации состоит не столько в самом факте расхождений, действительно неопровержимых, сколько в нашем европейском истолковании этих расхождений. Трудность-то в том, что мы единственная цивилизация, которой по целому ряду причин, связанных с переходом от профессионализма к универсализму, пришлось опредметить грамматику и нагрузить ее функцией целостности, превратить универсально-априорные грамматические правила во всеобще-априорные категории, придающие нашим картинам мира целостность и устойчивость, системность. Более того, это опредмечивание прошло по кибернетическим линиям "слово-дело", где "знать" действительно означает "уметь", замкнуло общение на поведение, выделило как всеобщую связь функцию регулирования в ущерб функции творчества, которую мы теперь открываем в квотах цитирования, ранговом распределении, глубине памяти, априорной и бессодержательной канонике языка-системы.
Реальным результатом однобокого, по функции регулирования, опредмечивания грамматики было тождество формы и содержания, застывание формы на содержании, то есть на первых порах что-то похожее на иллюзию, будто строительные леса не есть нечто служебное и временное, а несущая конструкция постройки смысла, гарантия ее целостности, будто без лесов постройка рассыплется. В устной речи мы этой иллюзии не испытываем: форма для нас именно связка между неформальным началом (говорящий) и неформальным концом (слушающий), то есть форма - строительные леса смысла, которые рассыпаются сразу же по достижении результата: никто из нас, если у него нормальная "европейская" память, не смог бы "вспомнить", с какого слова начато данное предложение или каким словом окончено предыдущее. Для этого нужно остановиться и вернуться. Канон устной речи содержит априорные правила остановки и возврата в историю текста (вопросительные конструкции), но, как показывают исследования, такой возврат к пройденному практически никогда не повторяет "отмененную" вопросом часть текста: говорящий, возобновляя прерванное движение с отмеченного вопросом места, идет, как правило, "новым путем", использует другую лексику и другие формы.
Иллюзия связи формы и содержания, мысль о содержательном формализме, может возникнуть только в письменной речи и с тем большей вероятностью, чем ближе канон письменной речи подходит к канону устной. В нашей европейской традиции отождествление речевого формализма и смысла в единство формы и содержания возникло на предметной базе алфавитного письма, сохраняющего все стороны языка-системы, и греческий алфавит, фиксирующий не только согласные, но и гласные, свободный от ритуально-идеографических включений, оказался идеальным средством омертвления потока речи в то, что мы называем сегодня текстом. Здесь формальные леса действительно впаяны в смысл, нагружены если не несущей, то различающей функцией, выглядят тем связывающим кирпичи цементом, который вполне способен порождать иллюзию автономии формы, что, скажем, если изъять кирпичи, то башня смысла останется все-таки башней, а не кучей хлама.
Ясно, что не было бы ничего сверхъестественного, если бы текст был опредмечен и осознан на вавилонско-хеттской клинописи, или на египетской иероглифике, или на финикийском, фиксирующем лишь согласные в алфавите, который греки приспособили под собственные нужды. Но, во-первых, такое опредмечивание и осознание не было бы полным - все догреческие виды письма включали гадательный довесок истолкования, домысливания, и лишь греческая фиксация всех фонем, особенно гласных окончаний, несущих у греков, как и у нас, основную формальную нагрузку, сняла это требование домысливания, дорисовки текста, что, кстати говоря, превратило наш европейский графический текст в эталон текста вообще, которым мы измеряем степень "несовершенства" других типов записи - по согласным, слогам, понятиям-идеограммам и т.п. А во-вторых, и это главное, хотя речь и фиксировалась во многих культурах - почти все традиционные культуры обладали и обладают письменностью, - застывала в предметную, допускающую анализ и исследование форму, нигде, кроме Греции, возможность осознания смысла по универсальной грамматической форме, возможность логики языковых универсалий, не стала действительностью.
Объяснить этот последний факт можно лишь одним: кроме связи текста в целостность с помощью априорных правил языка-системы возможны и другие способы связи, использующие другие средства, и в принципе возможный переход от одних средств к другим, от мифа, скажем, к логике, от всеобщих универсалий кровного родства имен-богов к всеобщим универсалиям грамматического формализма может совершиться или не совершиться производно от целого ряда внешних обстоятельств, о которых мы пишем в анализе научно-технической революции. Сам переход можно зафиксировать модификацией рис. 1.
Рис. 3. Слияние систем целостности (Сц) и априорных универсалий речи (Су) в единую систему входа.
В статье о научно-технической революции мы рассматриваем этот процесс с точки зрения социального кодирования знания как условия преемственного существования общественных отношений в смене смертных поколений (трансляция). Рисунок 3 дает возможность заметить ряд дополнительных семантических эффектов, а также вскрывает основной очаг возможных недоразумений в истолковании роли языка-системы. Пока форма и содержание рассматриваются в тождестве, форма содержательной, а содержание оформленным (случай 2), мы волей-неволей вынуждены либо приписывать грамматическим универсалиям фрагментирующие и связывающие фрагментарный мир свойства (Сепир, Уорф), что неизбежно ведет к исчислению логик по числу наличных грамматик, либо же, отрицая эти свойства грамматического формализма, мы вынуждены искать за пределами языка-системы и, соответственно, за пределами смертного человека какой-то другой всеобще-априорный формализм (естественная логика). Примет ли второе решение вид существа личного (христианство) или безличного (опытная наука), разумного (христианство) или неразумного (опытная наука), познающего субъекта или познаваемого объекта, в любом случае оно обязано будет обладать надчеловеческим достоинством целостности, вечности, всеобщности, содержательности, то есть быть носителем и гарантом определенности тождества формы и содержания.
Когда мы, вооружившись принципом содержательного формализма, берется ли он как мертвое тождество-совпадение или как диалектическое живое единство противоположностей, идем в анализ инокультурных знаковых систем хранения и трансляции социально необходимого знания, мы априорно накладываем на них требование соблюдения принципа тождества формы и содержания, подчинения этому принципу, что в лингвистических исследованиях выливается в искусственное создание фиксированных по речи текстов (запись и суждения по составу записанного, хотя сами записанные ничего не записывают и не могут опираться на записи), а в историко-философских исследованиях ведет к отбрасыванию самой системы целостности (Сц, рис. 3.1) как детали странной и непонятной, к насильственному выделению всего, что хотя и не опирается на априоризм языка системы, то хоть отдаленно напоминает всеобще-априорный формализм совмещенного (форма + содержание, "двучленная формула" по Уорфу) европейского типа. Поиск идет по "косвенной" формуле Аникеева: "В Упанишадах отсутствует обсуждение чисто логических проблем, но косвенно можно установить, что мыслителям того времени были известны такие логические приемы, как аналогия, целенаправленный эксперимент, разложение явления на противоположные элементы и др." (25, с. 78). Словом, это все та же запись и суждение по записи - приписывание инокультурным явлениям тех функций, которыми они обладают в нашей культуре, а в своей не обладают.
Такая "косвенность" подхода по искусственно создаваемым формально-содержательным мосткам типа записи или "анализа" с опорой на наши формализмы представляется нам не столько исследующей, сколько скрывающей реальную проблему. В полевых исследованиях этого не происходит. Например, исследователи опрашивают непальских школяров и на основании их ответов приходят к выводу: 1) явления природы существуют не сами по себе, а вызываются личной, разумной, во всяком случае, одушевленной причиной, ее волей или поступком, каждое явление "прописано" по вполне определенной причине, относится к сфере ее ведения; 2) контроль над явлениями природы располагается в сфере общения (не взаимодействия) с одушевленными и способными к пониманию человека причинами, опосредован ими как решающей инстанцией, лишь ограниченно контролируемой человеком; 3) вся сумма знаний и навыков либо "всегда была" и передается от поколения к поколению "старыми людьми", либо же, если требуется указать конечный источник, распределена по тем же личным разумным причинам, которые передают созданные ими искусства людям; 4) все личные причины, ответственные за явления природы и за транслируемую от поколения к поколению сумму знаний, объединены кровно-родственной связью в целостную систему личных имен-богов (26, pp. 650-652),
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба философа в интерьере эпохи."
Книги похожие на "Судьба философа в интерьере эпохи." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи."
Отзывы читателей о книге "Судьба философа в интерьере эпохи.", комментарии и мнения людей о произведении.