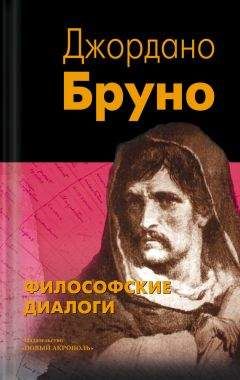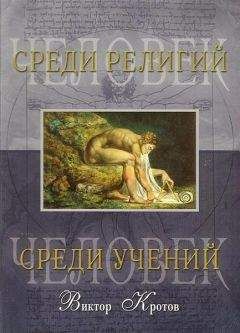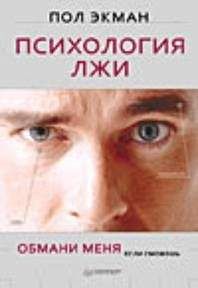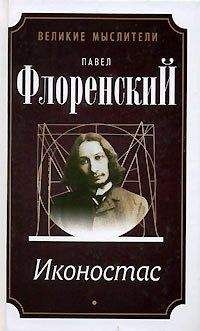Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба философа в интерьере эпохи."
Описание и краткое содержание "Судьба философа в интерьере эпохи." читать бесплатно онлайн.
Все написанное Михаилом Константиновичем проникнуто пафосом критики социального фетишизма, в условиях которого возникает убеждение, будто бы человек обязан различным институтам, знаковым системам и структурам всем, а сами они могут обойтись без человека, обладают способностью к саморазвитию. Такое убеждение порождает социальную пассивность, упование на "колесо истории", притупляет чувство личной ответственности за все, что делается здесь и теперь.
Петров Михаил Константинович
Историко-философские исследования.
М., 1996.
512 с.
У Платона другой подход: содержательный логико-лингвистический формализм (мир идей) образует матрицу неизменного порядка (язык-систему Ельмслева), а сила, приводящая вещи к порядку, берется из арсенала мифологии как свойственное всему живому и смертному трансляционное стремление к вечному и неизменному через Эрос во всех его разновидностях от деторождения до восхождения к идеям прекрасного, блага, справедливости. Элементы содержательного формализма - идеи, виды - "стоят в природе как бы образцы, а прочие вещи подходят к ним и становятся подобиями; так что самая причастность их видам есть не иное что, как уподобление им" (Парменид, 132 D). Генерализация причастности к вечному идет по мифологической универсалии порождения: "Все люди беременны как телесно, так и духовно, и, когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени... рождение - это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу" (Пир, 206 С, Е).
И Демокрит и Платон говорят, в сущности, об одном и том же - о содержательной форме или об оформлении содержания. Но у Демокрита слово - "тень дела" (Плутарх), "звучащая статуя" (Олимпиодор), а у Платона, если судить по "Кратилу", слово несет скорее врожденное, по природе содержание. Демокрит собирает формализм с уровня букв-стихий, неизбежно разрывая при этом связь истинности по природе и заменяя ее связью по установлению (В 26). Платон идет от всеобщих категорий социального бытия: "В действительности все связуется и удерживается благом и долгом" (Федон, 99 С), и, обнаруживая недостаточность формализма самого по себе, снимает эту недостаточность не с помощью истины-соответствия, как это приходится делать после Демокрита всем тем, кто признает тезис "немотивированности лингвистического знака" (имена по установлению), а с помощью дополнительного регулятора - души. Демокрит определенно ближе к современному естественнонаучному пониманию формализма природы как распределенного и размытого "свойства", тогда как для Платона более характерен подход кибернетический, выделяющий регулятор в часть целого.
За всем тем ни Демокрит, ни Платон не знают собственно гносеологии, движения от наличного к новому, неизвестному. Как только речь заходит о творчестве, где они могли бы четко определить свои позиции, оба оказываются, по сути дела, на одной мифологической позиции: творчество - удел богов, поэт или изобретатель лишь связь между богом и людьми. Здесь спорить можно только о приоритете в духе, скажем, замечания Лосева: "Из философов не Платон, а Демокрит учит впервые о поэтической "мании"" (28, с. 479), но вряд ли в подобный приоритет можно вложить гносеологический смысл.
В линии Сократ - Платон - Аристотель окончательный переход на логико-лингвистическую основу сдерживался двумя препятствиями. Одно было связано с трудностью постижения мира абстракции, споры Сократа все, собственно, построены на отвлечении от чувственного, а другое - с очевидной избыточностью языковой формы, позволяющей, как это демонстрировали софисты, с одинаковой убедительностью говорить и за и против, то есть использовать язык не как систему истинного знания, а как средство. Недостаточность феноменологического объяснения и необходимость привлечения этического аргумента вскрывались достаточно ясно. Полемика Сократа против Анаксагора в "Федоне" (97 С-99 D) есть, по сути дела, полемика против всей "фисиологической" традиции, против самой возможности объяснить мир социального поведения из "жил, костей, суставов и сухожилий". Возникающая здесь неопределенность фиксируется точно: "Да, клянусь псом, эти жилы и эти кости уже давно, я думаю, были бы где-нибудь в Мегарах или в Беотии, увлеченные ложным представлением о лучшем, если бы я не признал более справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять любое наказание, какое бы ни назначило мне государство" (Федон, 98 Е-99 А).
В попытках закрыть эту неопределенность на уровне поведения Сократ постоянно возвращается к идее высшей управляющей инстанции. Это прежде всего душа в теле: "Когда душа и тело соединены, природа велит одному подчиняться и быть рабом, а другой - властвовать и быть госпожою" (Федон, 80 А). Это и закон (Критон,) и демон (Апология Сократа), и боги: "Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей и что не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать... о нас пекутся и заботятся боги, и потому мы, люди, - часть божественного достояния" (Федон, 62 В). Опорная аналогия такого движения к авторитетной инстанции самоочевидна. Еще Евмей выразил это рабское умонастроение:
Он, столь ко мне благосклонный; меня б он устроил, мне дал бы Поле, и дом, и невесту с богатым приданым, и, словом,
Все, что служителям верным давать господин благодушный Должен, когда справедливые боги успехом усердье Их наградили...
Одиссея, XIV, 62-66
Сократ, пытаясь втолковать Кебету идею человека - божественного достояния, обращается именно к этому "естественному" чувству: "Но если бы кто-нибудь из тебе принадлежащих убил себя, не справившись предварительно, угодна ли его смерть тебе, ты бы, верно, разгневался и наказал бы его, будь это в твой власти?" Кебет отвечает твердо: "Непременно!" (Федон, 62 С). Эта рабская психология принадлежности, достояния существенно отличается от психологической установки мифа, где бог - покровитель, соучастник деятельности, средство хранения и умножения социального знания. Вектор поисков Сократа нацелен не на этого мифологического бога, а на нечто совсем другое - на сущность кибернетическую, на иерархию господствующих регуляторов.
Тот же смысл приобретают, по сути дела, и поиски способов закрыть избыточность языковой формы. Горгий так объясняет эту избыточность: "Красноречием надлежит пользоваться по справедливости. Если же кто-нибудь, став оратором, затем злоупотребит своим искусством и своей силой, то не учителя надо преследовать и изгонять из города: ведь он передал свое умение другому для справедливого пользования, а тот употребил его с обратным умыслом" (Горгий, 457 ВС). Нейтральность речи по отношению к содержанию и к целям ее использования, то есть очередная неопределенность, закрывается все тем же способом - обращением к иерархии идей. За формализмом непосредственно данного в речи усматривается какой-то другой, более содержательный и истинный. В строгом смысле слова это требование на "естественную логику", но, поскольку оба восхождения - поиск авторитетной инстанции и поиск иерархии идей - совершаются по функции регулирования, здесь может обнаружиться и требование на единый, вечный, всеблагий регулятор - на бога монотеизма.
У Платона это замыкание оформляющих иерархий происходит на фигуре демиурга, существа вполне личного, хотя и ущербного (лишен зависти). Эта ущербность не случайна: начиная с Ксенофана, бог которого неподвижен - "переходить с места на место ему не подобает" (Симплиций, Phys. 22, 9) и "не дышит" (Диоген, IX, 19). - идет процесс трансформации буйных богов олимпийского семейства в вечные и упорядоченные регуляторы. Дальше других в этом направлении идет Аристотель: его первый двигатель, который разумно движет, оставаясь неподвижным, бесспорный кибернетический полюс мира - форма форм, цель целей, регулятор регуляторов.
Но "другой формализм", скрытый за формализмом речи, действительно обнаруживается. По ходу критики софистики, в погоне за устойчивым и неизменным Аристотель открывает формальную логику, силлогистику. Он исследует их на языковом материале, на движении мысли в предложениях-суждениях и тут же распространяет законы формальной логики на первую сущность - на порождающую способность материи, которой предписывается теперь быть способной принимать противоположные определения через изменения себя самой, оставаясь тождественной в изменениях по числу, то есть быть способной порождать через уничтожение выбора.
Является ли этот "другой формализм" лингвистическим? Нам кажется, что на этот вопрос, выходящий за рамки настоящей статьи, ответ можно получить из анализа судьбы четырехначальной сущности Аристотеля. В какой-то мере он дан уже Галилеем, по которому книга природы "написана на языке математики", а также и Гоббсом, который с помощью принципа инерции устранил из картины мира все, способное двигать, оставаясь неподвижным. Результаты современной лингвистики подтверждают, что формальная логика не относится к числу языковых явлений, принадлежит миру поведения, а не общения. Языковой и математический формализмы различны по природе: первый относится к творчеству, второй - к репродуктивному поведению. Соответственно, перед историей философии возникает, нам кажется, задача раздельного или, во всяком случае, различенного анализа общения и поведения, поскольку собственно гносеология, теория получения нового знания, а не функционирования наличного, располагается в области общения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба философа в интерьере эпохи."
Книги похожие на "Судьба философа в интерьере эпохи." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Петров - Судьба философа в интерьере эпохи."
Отзывы читателей о книге "Судьба философа в интерьере эпохи.", комментарии и мнения людей о произведении.