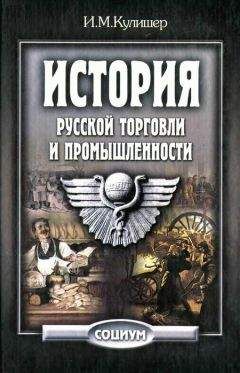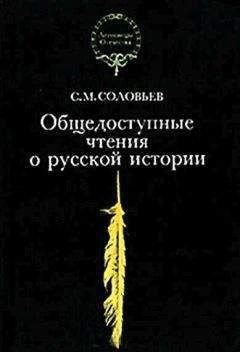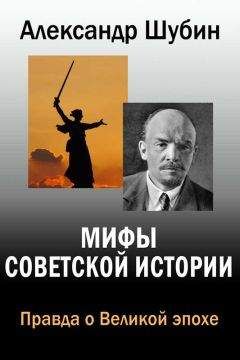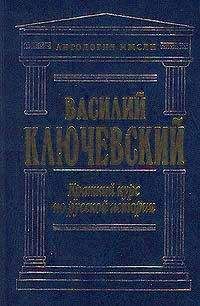Павел Рейфман - Из истории русской, советской и постсоветской цензуры
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Из истории русской, советской и постсоветской цензуры"
Описание и краткое содержание "Из истории русской, советской и постсоветской цензуры" читать бесплатно онлайн.
Курс «Из истории русской, советской и постсоветской цензуры», прочитан автором для магистрантов и докторантов, филологов Тартуского университета, в 2001–2003 годах.
Хрущев непосредственно дважды обрушился на Некрасова, на встрече с писателями 8 марта и на пленуме ЦК КПСС 21 июня 63. Хрущев обвинял Некрасова за распространение «небылицы о жизни в родной стране», за хвалебный отзыв о фильме М. Хуциева «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»). На пленуме сказано, что Некрасов «погряз в своих идейных заблуждениях и переродился», а «партия должна освобождаться от таких людей». Всё это было перепечатано в «Правде», в «Литературной газете», во всех толстых журналах, в том числе в «Новом мире». Начались персональные партийные дела, различные проработки. Хрущева давно вывели на пенсию. Вождем стал Брежнев. А травля Некрасова всё продолжалась. На него было заведено три партийных дела (7). Первые два завершились стогими выговорами. Третье дело, начатое в 72 г., закончилось исключением Некрасова из партии. Запланированное издание его двухтомника остановлено. Имя его запретили упоминать в печати. Он был лишен литературного заработка. Последней каплей, переполнившей чашу терпения писателя, оказался обыск в его квартире и в квартирах его друзей 17 января 74 г. Незадолго до отъезда за границу Некрасов написал памфлет «Кому это нужно?», появивщийся в эмигрантских газетах и переданный по радио «Свобода». Писателя заставили сделать свой выбор, эмигрировать. После отъезда Некрасова приказом Главлита все его книги были запрещены и изъяты из библиотек (7).
Совершенно очевидно, что преследования Некрасова вызваны не только восприятием властями его творчества (хотя и оно было не по нутру), но и его правозащитной деятельностью, борьбой против антисемитизма. Проблема Бабьего Яра, памятника расстрелянных фашистами в Киеве евреев, которую Некрасов затрагивает уже с конца 50-х гг., становится одной из основных в его жизни. Хроника его выступлений по этой проблеме: «21. 6.1966. Виктор Некрасов в клубе архитекторов в Киеве, где обсуждаются планы памятника в Бабьем Яру <…> 29 сентября 1966 г. на митинге в связи с 25-летием Бабьего Яра Некрасов произнес речь. Новое персональное дело, второй строгий выговор» (63); «12.6.70. Виктор Некрасов клеймит осквернение кладбищ» (66; еврейских — ПР). Вопрос об антисемитизме, насаждаемом сверху, тревожит его многие годы. Наиболее отчетливо взгляды Некрасова по этому вопросу отражены в его статье «Об антисемитизме», написанной в эмиграции. Но они определяют и его позицию до отъезда из СССР; эта позиция советским властям была хорошо известна.
Статья Некрасова «Об антисемитизме» — о трагедии Бабьего Яра, косвенно связанная с фильмом «Holocaust», который «всех всколыхнул». Возвращение к прошлому: расстрел фашистами в Бабьем Яру евреев, «может быть, самый чудовищный за всю историю человечества». Но статья не только о нем, а о том «как старательно пытались вытравить из памяти человеческой всё, что касалось и напоминало об этих трагических событиях». О памятнике, который наконец поставили и который затушевывает происшедшее. Гид объяснит вам: «На этом месте немецко-фашистские варвары уничтожили около ста тысяч ни в чем неповинных советских граждан“. “''Евреев?'' —спросите вы. ''Стариков, женщин, детей… И военнопленных всех национальностей'', — не глядя в глаза, ответит гид». Некрасов пишет о том, что в этом овраге, действительно, расстреливались не только евреи, «но основная масса, семьдесят тысяч, расстреляна была 29, 30 сентября и 1 октября 1941 года. И это были евреи. Только евреи… Варфоломеевская ночь — детская забава по сравнению с тем, что произошло на этой окраине Киева в те три, памятные всем дня…». А далее, по словам Некрасова, власти сделали всё, чтобы о расстреле забыли. На его месте устроили свалку… и говорили: «Что вспоминать? Героев? Здесь нет героев! Люди сами добровольно пришли, вот их и расстреляли. Сами виноваты. Нечего было идти…». О памятнике и думать не хотели: «Нет! Забыть! Стереть с лица земли! И названия чтобы не было! Есть Сырецкий Яр, и всё. Нет Бабьего Яра. Нет и не было…Забыть!». Решили намыть грунт, чтобы и яра (оврага — ПР) не осталось. Затем устроить на этом месте парк, с танцевальными площадками, буфетами, ресторанами. Мощные насосы несколько месяцев заполняли овраг жидкой смесью песка и глины. А в устье оврага поставили две земляные плотины. И вторая трагедия обрушилась на Бабий Яр весной 1961 года. Плотины не выдержали и вся масса не застывшей смеси песка и глины, высотой в десять метров, обрушилась на Куреневку, одну из окраин Киева. Количество жертв тщательно скрывалось, «в газетах, конечно, ни строчки… только ''Правда'' дала на следующий день репортаж из Киева о том… как киевляне провели свой выходной. И мирную фотографию Подола, куда входит Куреневка».
Через пять лет на этом месте собрались люди: 25 лет со дня расстрела, пришли многие, может быть, несколько тысяч. «Двадцать пять лет! И ни памятника, ни камня, пустырь, бурьян… А под ним кости». Некрасов выступал на митинге и говорил, что памятник обязательно будет. «Но появилась вдруг милиция и попросила всех разойтись. Не положено. Расходитесь, чего собрались? Идите по домам. А вы, товарищи, которые что-то там снимали, отдайте нам пленку. Так будет лучше. И отобрали пленку. А директора киностудии потом сняли с работы».
Позднее прорабатывали Некрасова: зачем выступал? Почему не посоветовался? Через некоторое время на месте расстрела появился камень. Потом выстроили трибуну, откуда секретарь Шевченковсого райкома партии ежегодно говорил о производственных успехах, «обязательно упоминал о зверствах сионистов в далеком Израиле. Потом исполнялся гимн и митинг объявляли закрытым». Людей, которые приносили венок с бело-голубой лентой или непонятными русскому буквами, «просили проследовать в эту стоящую здесь неподалеку машину, а если будете упрямиться, поможем». В конце-концов воздвигли памятник «могучим, гордым и несгибаемым борцам“, стоящий на месте, где 35 лет назад погибли старые, больные беспомощные евреи. Думаю, даже Гитлер вместе с Геббельсом не могли бы придумать подобного — на месте несуществующего Бабьего Яра соорудить памятник существующему, неистребимому антисемитизму».
Некрасов призывает, в связи с фильмом о Холокосте, «что-то вспомнить. И напомнить. Еще раз. Напомнить, что самая страшная форма антисемитизма, это насаждаемая сверху. И что только в одной стране на всем свете это сохранилось до сих пор — и эта страна Советский Союз». «А ''мозги'' уезжают. Один за другим. И многих из них я видел в Израиле. Работают, приносят пользу стране, которая, правда, и не вскормила их, но не преследует, не клеймит позором на собраниях и не заглядывает тебе в разные отверстия, когда ты пересекаешь границу — не засунул ли ты туда бабушкино колечко, оно ведь не бабушкино, оно народниое. Виктор Некрасов. 7 марта 1979 г.» (18–21).
Сам Некрасов писал о себе: «Я русский. Во всех поколениях (что-то с материнской стороны, среди прабабушек, было ''заграничное'' — шведское, итальянское). Всю жизнь прожил на Украине, в Киеве <…> И родился, и учился, и влюблялся (самой красивой, кстати, была чистейшей воды украинка, Наталка), и воевал, и первый танк увидел на берегу Оскола, а ранен был на Донце.<…> А Украину люблю, потому что люблю Украину“. И еще о себе — “''Почетный еврей Советского Союза'' — сказал Давид Маркиш в некрологе» (13).
68 год. Вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию. 4-го декабря: «Виктор Некрасов заступается за незаконно осужденных за протест против вторжения в Чехословакию» (64). Начало 73 г.: «В связи с тем, что Некрасов подписывает несколько писем в защиту преследуемых инакомыслящих, новое персональное дело. Исключен из партии ''за то, что позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии''» (67). Сохранился черновик письма Некрасова Генриху Бёллю, написанный в начале 74 г. Некрасов выражает полную солидарность со статьей Бёлля в защиту Солженицына и Сахарова, напечатанной в немецкой газете «Ди Цейт» и переданной по радио. Как раз в это время, в связи с высылкой Солженицына, с публикацией за границей «Архипелага Гулаг», в советской печати разразилась вакханалия лжи и клеветы. В газете «Правда» была напечатана статья И. Соловьева «Путь предательства». Всё это и опредилило выступление Бёлля. В ответ на его статью, на защиту Солженицына в европейской печати «Правда» писала в «Откликах на статью»: «Злобные отклики вызвала статья ''Правды'' в некоторых из наиболее махровых реакционных органов империалистической пропаганды. Это вновь подтверждает, что антисоветчики и антикоммунисты за рубежом, как и их креатура, вдохновляются из одних и тех же источников».
Письмо Некрасова — гневная отповедь тем, кто называет Солженицына и Сахарова «врагами народа». Писатель связывает такую травлю с давней устоявшейся: традицией советских властей: «Скольких прекрасных людей называли в свое время и предателями\и преступниками/ и врагами народа. Ну, а теперь Солженицына… Не ново! И приемы не новые. Плевать на то, что читатель<…> и понятия не имеет о чем идет речь, и никогда не читал и не прочтет Солженицынские ''пасквили'' и ''варева'', да и вообще в большинстве своем, /увы\, даже не знает, кто такой Солженицын. Враг — и всё! <…> Бессмысленно оспаривать гнусные обвинения никому не известного Соловьева в ''Правде'' по адресу Солженицына. Они настолько лживы, злобны и беспомощны, что не требуют даже аргументации. Горько другое — ''Правда'' всё-таки есть ''Правда'' и читают её миллионы, и многие верят. К сожалению, но это так <…> Вот это, действительно, ужасно. Десятки, сотни тысяч людей верят /у нас\, что Солженицын и Сахаров действительно сторонники ''холодной войны'' и против разрядки <…> ведь все существующие в нашей стране средства информации к их услугам — газеты, радио, телевидение, лекторы, инструкторы, агитаторы <…> Вот в этом весь ужас происходящего… Верят, хотя и не понимают» (68–70).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Из истории русской, советской и постсоветской цензуры"
Книги похожие на "Из истории русской, советской и постсоветской цензуры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Рейфман - Из истории русской, советской и постсоветской цензуры"
Отзывы читателей о книге "Из истории русской, советской и постсоветской цензуры", комментарии и мнения людей о произведении.