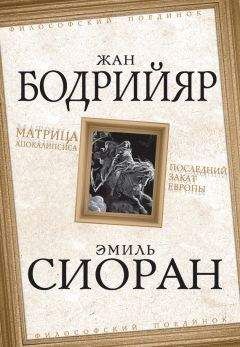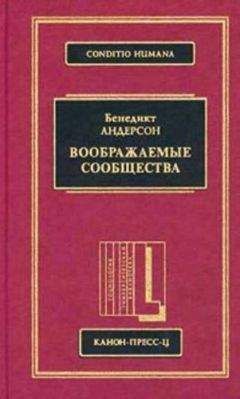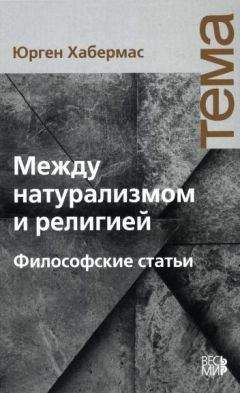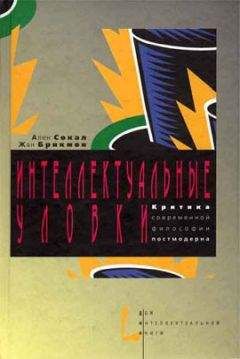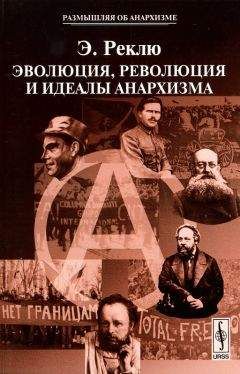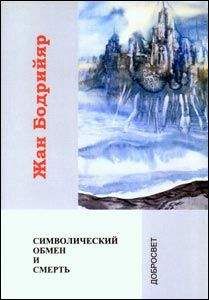Перри Андерсен - Истоки постмодерна
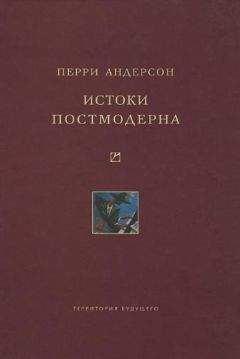
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Истоки постмодерна"
Описание и краткое содержание "Истоки постмодерна" читать бесплатно онлайн.
В этой проницательной и многогранной книге известного британского марксистского теоретика Перри Андерсона предлагается рассмотрение генезиса, становления и последствий понятия «постмодерн». Начиная с захватывающего интеллектуального путешествия в испаноговорящий мир 1930-х в ней показываются изменения значения и способов употребления этого понятия вплоть до конца 1970-х, когда после обращения к нему Ж.-Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса идея постмодернизма стала предметом самого широкого обсуждения. Большое внимание в книге уделено Фредрику Джеймисону, работы которого представляют сегодня наиболее выдающуюся общую теорию постмодерна. Реконструируя интеллектуальный и политический фон джеймисоновской интерпретации настоящего, «Истоки постмодерна» рассматривают ее «последействия» в дебатах 1990-х. Андерсон обогащает его известный анализ модернизма, помещая постмодернизм в силовое поле деклассированной буржуазии, распространения медиатизированной технологии и исторического поражения левых, которым ознаменовалось окончание холодной войны. Строго следуя своей интерпретации постмодернизма как культурной логики многонационального капитализма, в конце книги Андерсон размышляет об упадке модернизма, изменениях в системе искусства, распространении спектакля, спорах о «конце искусства» и о судьбе политики в мире постмодерна.
Модуляции
Содержат ли сочинения Джеймисона о постмодерне указания на некую подобную эволюцию, расставляют ли они подобные акценты? Сходные мотивы, безусловно, присутствуют в его исследовании Адорно, которое может быть прочитано не только в соответствии со своим названием — «Поздний марксизм», но и как возрождение, в духе замечания Уоллена, диалектического наследия модерна. Джеймисон ясно высказывается по этому вопросу: «Модернизм Адорно исключает ассимиляцию со случайно-свободной игрой постмодернистской текстуальности, что равнозначно тому, что определенное понятие истины все еще сохраняется в этих вербальных или формальных материях», а его собственный пример сохраняет провокативность модерна в ее лучшем виде. «Диалектика просвещения» (каковы бы ни были ее недостатки) с ее безжалостным исследованием Голливуда напоминает нам, что «сегодня, когда триумф наиболее утопичных теорий массовой культуры кажется окончательным и практически бесповоротным, нам, вероятно, требуются коррективы в виде некоей новой теории манипуляции и собственно постмодернистского превращения [всего] в товар»27. В современных условиях то, что некогда было специфическим ограничением, стало теперь принципиальным противоядием. «Адорно был сомнительным союзником, пока еще сохранялась мощные и оппозиционные политические течения, от которых его темпераментный и придирчивый квиетизм мог отвлечь преданного читателя. Теперь, когда сами эти течения успокоились, его желчь является счастливым противоядием и разъедающей кислотой для поверхности „того, что есть“»28. Вот политический голос, отвечающий тому же зову.
Книга Джеймисона об Адорно вышла всего годом ранее «Постмодернизма, или Культурной логики позднего капитализма». Наблюдаются ли в этой второй работе некие вариации в его трактовке постмодерна? В последней части «Семян времени», признав «определенное недовольство собой и другими» в связи с преувеличением «необузданного богатства» архитектурных форм постмодерна, Джеймисон предложил вместо этого структурный анализ их ограничителей29. Результатом стала комбинаторика позиций, определенная четырьмя признаками (тотальностью, инновационностью, пристрастностью, повторностью), которые формируют замкнутую систему. Эта замкнутость, однако, не детерминирует ответы архитектора на набор ее возможностей, но девальвирует плюралистическую риторику постмодерна. Кроме того, как это ни удивительно, Джеймисон выражает здесь свое восхищение всеми практиками и теоретиками (Колхасом, Айзенманном, Грейвсом, Муром, Росси, Фрэмптоном), распределенными по его семиотическому квадрату, независимо от того, насколько враждебны они были друг к другу. В полном согласии с этим экуменизмом (хотя по ходу дела нередко происходит мощное вторжение социального) здесь нет также и какой-то дискриминации в отношениях между позициями, которые различаются исключительно по формальным критериям.
Парадоксальным следствием всего этого стало попадание Мура и Грейвса с их любовью к декору и Фрэмптона, ненавидящего декор, в одну и ту же эстетическую четверть, которую затем анализ должен был разделить вспомогательной комбинацией. Фрэмптон, например, счел бы такой подход к архитектурному поприщу недостаточно критическим30. Действительно, архитектура занимает среди искусств особое положение, и данное обстоятельство может прояснить явную сдержанность Джеймисона, которая имеет место в данном случае. Никакие другие эстетические практики не обладают столь непосредственным социальным воздействием и, что вполне логично, не производят, соответственно, столь амбициозных проектов социальной инженерии. Но поскольку в то же самое время цена и значение большого комплекса зданий существенно превышают таковые в случае других сред, то актуальное осуществление архитектором своего свободного выбора (применительно к конструкциям и площадкам), как правило, меньше, чем во всех прочих случаях: обыкновенно руководят заказчики-бизнесмены или бюрократы. Самая первая фраза Кулхаса из его программной фантазии «S,M,L,XL» гласит: «Архитектура — это опасная смесь всемогущества и немощности»31. И если определенная реальная немощность является обыкновенным материальным базисом, то тогда фантазии о всемогуществе могут найти выход только в форме.
Остается рассмотреть вопрос о том, насколько идеи такого рода обусловили джеймисоновский подход. Следует заметить, однако, что за этой комбинаторикой, заявленной как набросок, затем последовало вмешательство более строгого расчета, поставившее ранее обойденные вопросы. В вежливой рецензии на главное произведение Кулхаса смешиваются теплота личного восхищения с запретом на превозносимый им проект будущего (город, которым можно распоряжаться по своему усмотрению, ближайшим аналогом которого является Сингапур); Джеймисон видит в этом яростное иконоборчество, идеализирующее практически тюремные установки, извращенное предназначение «авангарда без миссии»32. Впоследствии он настаивал на том, что в современной архитектуре «агонизируют ответственность и приоритеты» и что необходима критика ее идеологии форм — где фасады Бофилла и Грейвса принадлежат к порядку симулякров, а «богатство изобретательности разлагается в легкомысленность и бесплодие»33. В последнем тексте «Культурного поворота» сама спекулятивная структура глобализованных финансов, царство фиктивного капитала, если пользоваться выражением Маркса, обретает архитектурную форму в призрачных поверхностях и бесплотных объемах большинства постмодернистских высотных зданий.
В других областях модуляция кажется более очевидной. Прежде всего это касается ошеломляюще длинного эссе «Трансформации образа», сердцевины «Культурного поворота». Здесь Джеймисон отмечает масштабное возвращение в рамках постмодерна тех тем, которые он сам некогда теоретически объявил вне закона: возрождение этики, возвращение субъекта, реабилитация политической науки, возобновление дебатов о модерне и, прежде всего, переоткрытие эстетики. В той мере, в какой постмодерн в широком смысле как логика капитализма, торжествующего в мировом масштабе, изгнал призрак революции, нынешний поворот являет собой, в прочтении Джеймисона, то, что можно назвать «реставрацией внутри реставрации». Особым объектом его критики является возрождение ярко выраженной эстетики прекрасного в кинематографе. Примеры, которые он обсуждает, весьма разнообразны — от Джармена и Кеслевского, с одной стороны, через режиссеров типа Корно и Соласа, с другой — к современным голливудским экшенам (не говоря уже о темах искусства и религии, ассоциирующихся с этим новым изданием прекрасного). Заключение Джеймисона сурово: если некогда прекрасное могло быть разрушительным протестом против рынка и его утилитарных производных, то сегодня всеобщая товаризация образов поглотила его как предательская патина господствующего порядка. «Сегодня образ — это товар, и потому бессмысленно ожидать от него отрицания логики товарного производства; и потому, в конце концов, все прекрасное сегодня искусственно»34.
Жесткость этого утверждения не имеет аналогов в работах Джеймисона по архитектуре, которая даже в самых сдержанных своих образцах куда более терпима к претензиям на внешний блеск. Что могло бы объяснить это различие? Вероятно, нам следует подумать о противоположности позиций этих искусств, кинематографа и архитектуры, в популярной культуре. Первое практически с самого начала занимало в ней главное место, в то время как второе почти никогда не имело прочного положения. В кинематографе не было аналога функционализма. В этой более разреженной среде поворот к декоративности в меньшей степени мог вызвать непосредственную ассоциацию с давнишней эстетикой зрелища, нежели в случае визуальных приманок коммерческих искусств. Для «Трансформаций образа» Джеймисон берет свои примеры эстетики прекрасного равно из явно экспериментальных, средне-интеллигентских либо же рассчитанных на массового зрителя фильмов. Но даже если сложно рассматривать «Латинский Бар» и «Яркий свет» в том же ключе, что и «Блю» и «Крестного отца», необходимость их уподобления диктуется, исходя из последней категории. Это видно из того, на чем фокусируется атака Джеймисона против кинематографического прекрасного, — на неподлинном «культе глянцевых образов» в кассовых ностальгических картинах, «чья броская красота может показаться непристойной», как «некая окончательная упаковка природы в целлофан, того же типа, которую модный магазин мог бы выставить в своей витрине». В этом отношении следует заметить, что Джеймисон в самом начале полемики определяет то, что противоположно вышеуказанному: «исторические движения и ситуации, в которых завоевание прекрасного было драматическим политическим актом: галлюцинаторная интенсивность пьянящих цветов в сером окаменении рутины, горький привкус эротики в мире изнуренных тел, низведенных в скотское состояние»35.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Истоки постмодерна"
Книги похожие на "Истоки постмодерна" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Перри Андерсен - Истоки постмодерна"
Отзывы читателей о книге "Истоки постмодерна", комментарии и мнения людей о произведении.