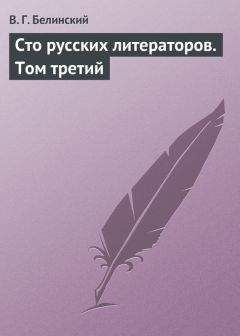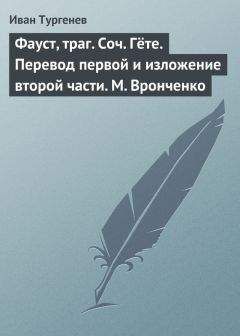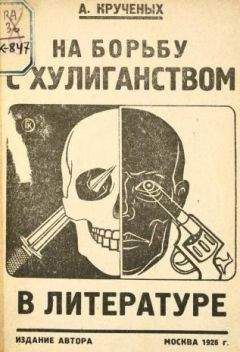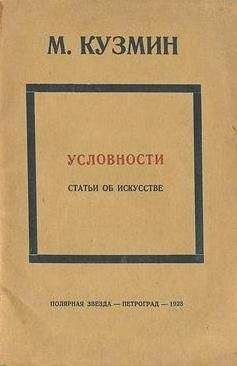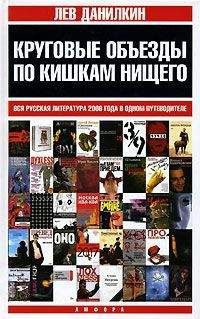Анатолий Луначарский - Том 3. Советский и дореволюционный театр

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 3. Советский и дореволюционный театр"
Описание и краткое содержание "Том 3. Советский и дореволюционный театр" читать бесплатно онлайн.
В третий том вошли статьи, доклады, рецензии, речи Луначарского, посвященные русскому дореволюционному и советскому театру.
В первой части тома собраны произведения, написанные до Великой Октябрьской социалистической революции, во второй — написанные в советский период.
Если эти люди традиции, на которых иногда собак вешают, про которых говорят, что они консерваторы, и то, и другое, и третье, если бы они от нас ушли, если бы их не было с нами, то мы сейчас были бы несколькими головами ниже в отношении эстетической культуры, да и вообще культуры. Но они голодали, страдали и все же служили, как умели, — а они умели — и донесли до нас то, что, как теперь ясно всем, нам нужно. Разве не показательно, что, когда Советская власть и Коммунистическая партия на большом празднике, который мы задали миру, хотели козырнуть чем-нибудь, — они козырнули именно спектаклями академических театров!17 Это не случай. Это произошло потому, что все знали, что это лучшее, что мы можем показать.
Рядом с этим мы внимательно относились к новому, мы отстаивали пролетарскую культуру. Когда среди наших товарищей раздавались голоса, что такой культуры нет, что она не разовьется, мы говорили: неправда, не может быть, чтобы великий пролетарский класс, взявший в свои руки власть, имея свою политическую экономию, имея свою политическую тактику, имея такое культурное учреждение, как его Советское государство, как профсоюзы, чтобы он рядом с этим не начал создавать на свой собственный масштаб и по своим потребностям новое искусство. Он будет его создавать. И наше отношение к левым театрам, когда мы говорили: это не привьется полностью, это не наше искусство, это не тот путь, по которому мы пойдем, это последний путь буржуазии, может быть, наиболее здоровой буржуазии, но это не наш путь, — кое-что в этом пути мы воспримем, создав известный синтез некоторых старых переживаний и приемов с другими более углубленными и более идейно и эмоционально содержательными, — это оказалось правильным. И ныне часто говорят: что сделалось с Мейерхольдом? Мейерхольд отживает, Мейерхольд идет назад. Я читал недавно статью в московской газете, что вот поставили «Пугачевщину» — шаг назад по сравнению с «Лисистратой»18. Это полнейшее непонимание, общие линии упущены из вида, общего плана эволюции театра не охватывают. Некоторые говорят: были такие разнообразные театры, каждый по-своему, а сейчас все смешалось — в Художественном театре можно встретить таировские приемы, у Таирова — приемы Малого театра. Но разве это не есть такой театр, который давал бы наибольший эффект? Все теперь идут к определенному типу, к тому самому, который всегда рисовался перед нами, — перед теми представителями Советской власти, которым это было поручено, — как подходящий для нас новый театр. У нас есть предпосылки и планы относительно других областей искусства, но мы в общем и целом в эти трудные годы не только самого искусства не потеряли, но позволили ему могуче двинуться вперед, так что все его отдельные нити начинают сплетаться в великолепную узорную ткань, и это делается чуть не в первый год, когда мы можем мало-мальски называть себя сытыми. И вот, приезжающие к нам иностранцы или иностранцы, которые видят, что мы вывозим, говорят: «Черт знает, почему это так случилось? Вероятно, по необыкновенному легкомыслию этих русских, которые, даже когда голодают, искусства не забывают, ведь они во многом перекозыряли нас, — как это произошло?»
А произошло это потому, что новые, революционные соки влились в первобытные драгоценные формы прошлого. Эти драгоценные формы прошлого — не оковы, не панцири, в которые пассивно вливается жизнь; да и жизнь не парафин, а чрезвычайно активно действующее вещество, — поэтому от этого вливания происходит такой синтез, такие взаимоотношения, при которых можно сказать, что мы двинем нашу культуру дальше и выше. В этом и заключается жизненность коммунизма, его разница от анархизма и всяких других стихийно революционных теорий, что мы прямо говорим — коммунизм целиком вытекает из капитализма, он протягивает дальше его здоровые нити. Некоторые из нитей прогнили, в них сказывается гниение буржуазии, их мы откидываем, другие же в высшей степени здоровы. И только потому, что общество здорово и идет вперед, только потому и возможен коммунизм. Если бы мы пришли, как новые варвары, в разрушенную Римскую империю, нам пришлось бы землю ковырять деревянной сохой.
Но этого нет. Мы сразу строим над выстроенными до нас этажами.
Я вовсе не хочу сказать, что мы уже достигли возрождения русского творчества, что мы находимся в периоде расцвета нашей литературы, нашей живописи, нашего театра, нашей музыки, но я говорю, что мы к этому расцвету идем, и в этом нет ни малейшего сомнения. Не подлежит никакому сомнению, что, когда Советская власть подойдет к этому расцвету художественной культуры, она скажет: как хорошо, что в первые годы после революции мы не наделали слишком много ошибок, что мы не слушали людей, которые отрекались от возможности создания пролетарской культуры, точно так же как не слушали людей, которые нам говорили, что надо разрушать все дореволюционное. Мы, следуя заветам Ильича, избегли ошибок и здесь. Он мало занимался вопросами искусства, но кто прислушивался всегда к его голосу, кто внимательно прислушивался к его словам, кто умел переложить и на другие темы его директивы, тот понимал, что и тут нами проводится чисто ленинский путь. Конечно, мы еще встретим критику и слева и справа, но это не заставит нас уклониться от того широкого, многообъемлющего, многообещающего, но в то же время твердого и определенного пути, по которому мы шли и до сих пор (аплодисменты).
О «Петербурге» А. Белого во Втором художественном театре*
«Петербург» представляет собою спектакль, тщательно обработанный талантливым театром на основе пьесы талантливого писателя1. Но если он будет иметь успех у широкой публики, то целиком заслугами театра, а не писателя.
Роман Белого «Петербург», при всей своей вычурности, представляет собой крупнейшее художественное произведение и довольно удачно передает то смятение умов и чувств, которое господствовало в так называемом «обществе» Петербурга перед революцией. Самый город Петербург (нынешний Ленинград) представляет собою изумительную арену для переживаний всевозможных слоев его населения. Каждый класс, каждая группа видит Петербург иным. Но если эти социально-субъективные «Петербурга» отличаются друг от друга, то сам объективный Петербург, со своей дивной, строгой архитектурой, со своей Невой, со своими туманами, представляет огромное своеобразие и носит в себе черты какой-то трагической значительности.
Петербургское «общество» — чиновничество, интеллигенция я публика верхней прослойки его населения в дореволюционный период — воспринимало этот Петербург и пейзажно, и архитектурно, и с точки зрения быта, и с точки зрения страшных для них врагов — самодержавия и революции, готовящихся к последнему бою, — как нечто в высшей степени жуткое.
Таким жутким вырисовывается в романе А. Белого главный герой — сам Петербург. Я не могу сказать, чтобы театру удалось в полной мере создать для зрителя то же впечатление. Однако временами (в первой и последней картинах, отчасти в сцене бала, отчасти в сцене трактира) нечто от этого «страшного Петербурга», полупризрачного, зловещего и торжественного, сохранилось.
Декорации Либакова заслуживают всяческой похвалы. Они прекрасно и интересно обрамляли спектакль, достигая этого совершенно ничтожными средствами. Кроме света, транспарантов, серой и белой марли и небольшого количества мебели, па сцене не было ничего — и все-таки декоративное обрамление явилось одним из интереснейших моментов всего спектакля.
Играли хорошо, в разной степени, — одни несколько лучше, другие несколько хуже. Но актерское исполнение было заострено гениальным изображением сенатора Аблеухова.
М. А. Чехов прибавил этот образ, как не меньшее актерское сокровище, к той серии лиц, которую он создал за время своего еще недолгого служения театру. Это полумеханическое, полуобезьянье стариковство, облеченное в сановность, переполненное чудачеством, было дано с законченностью совершенства. Пожалуй, самым удивительным здесь, как и во многих других образах Чехова, является сочетание театральности, доходящей почти до утрированности, с необыкновенно убедительной правдивостью. Чехова отнюдь нельзя назвать актером-реалистом. Он всегда до крайности, до парадокса обостряет создаваемые им фигуры. Но в этом-то и тайна исключительного таланта, что, обостряя их, он не порывает с жизнью, и его невозможные чудаки не только кажутся совершенно живыми и заставляют забывать о самом актере почти во все моменты сценического действия, но еще к тому же характеризуют собою целые полосы жизни.
Было бы очень интересной темой раскрыть толкование Чеховым хлестаковщины и те тончайшие нити, которые связывают Чехова-Хлестакова, с одной стороны, с Мальволио и, с другой стороны, с Эриком2. До сих пор еще не дан достаточно глубокий анализ интересной трактовки гамлетовщины у Чехова (стоящей совершенно особняком от предыдущей группы).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 3. Советский и дореволюционный театр"
Книги похожие на "Том 3. Советский и дореволюционный театр" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Луначарский - Том 3. Советский и дореволюционный театр"
Отзывы читателей о книге "Том 3. Советский и дореволюционный театр", комментарии и мнения людей о произведении.