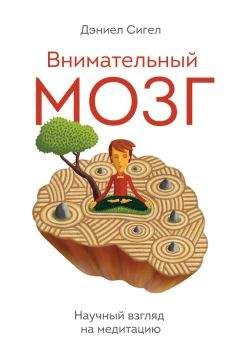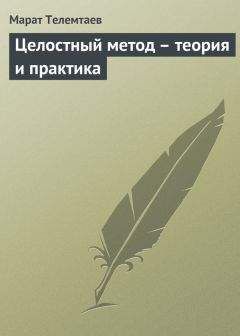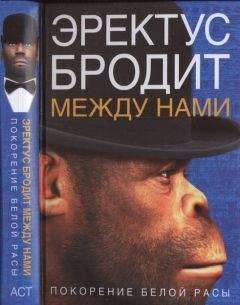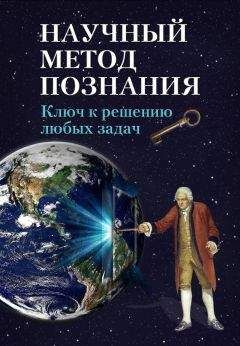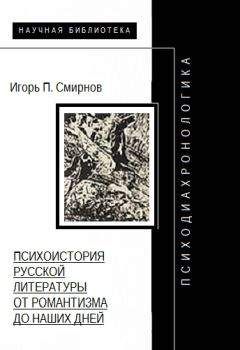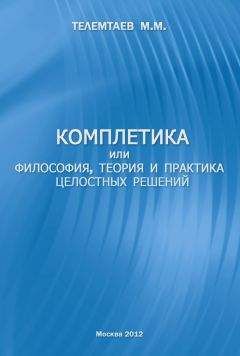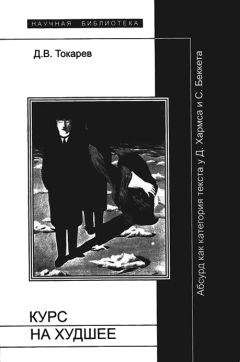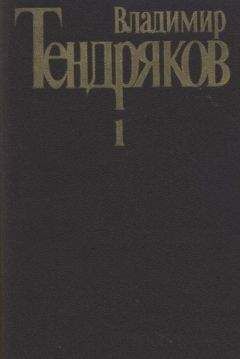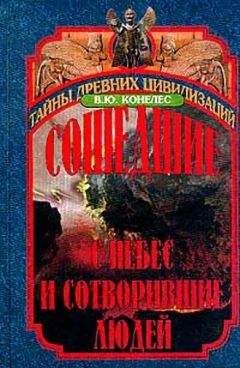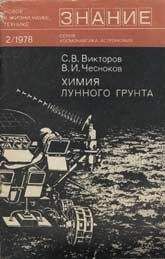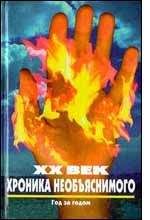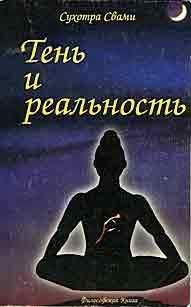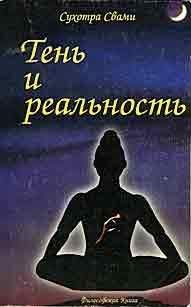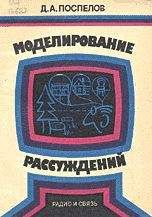Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Описание и краткое содержание "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе" читать бесплатно онлайн.
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный. Автор рассматривает самые разные аспекты творчества поэта — философскую и историческую проблематику, физиологию и психологию восприятия визуальных и вербальных образов, дискурсивные практики, оккультные влияния, интертекстуальные «переклички», нарративную организацию текста.
Снова молитва творит чудо, и Олег неожиданно видит Божество, сначала внутренним взором, с закрытыми глазами, а затем, открыв глаза, на стене. Можно сказать, что Божество, увиденное внутренним зрением во время астрального путешествия, остается видимым в качестве эйдетического образа, «спроецированного» на стену и воспринимаемого уже не внутренним, а «внешним» зрением:
И вдруг: «Да ведь мне и не надо будущего, я сейчас очнусь и исчезну, я встану с колен (протягивая руки с дивана, но все с закрытыми глазами), вот Ты, вот Ты передо мною, и я люблю, смею любить Тебя… Жалкое Ничто, я обожаю Тебя и прощаю Тебе все свои муки, свое одиночество, свою нужду, ибо я нахамил, напортил сам, оторвался от жизни…» Слезы, слезы. Олег судорожно плачет, а солнце любви все горит и сияет над ним… Наконец он неловко слезает с дивана и на коленях, мокрый, грязный, всклокоченный, дико указывает рукою на какое-то место на стене: «Вот, Ты здесь, Ты здесь. Будь благословен, это я Тебя Благословляю. Живи, живи, живи всегда…» (Домой с небес, 250).
Глава 5
«ГРЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ»:
Поплавский в интертекстуальной перспективе
5.1. Озарения Безобразова
(Поплавский и Артюр Рембо)
Специалисты по творчеству Поплавского не смогли прийти к общему мнению по поводу того, какое место в структуре романа «Аполлон Безобразов» занимает так называемый «Дневник Аполлона Безобразова», посвященный Дине и Николаю Татищевым. В. Крейд и И. Савельев, а также Л. Аллен опубликовали «Дневник» в качестве приложения к роману, Е. Менегальдо и А. Н. Богословский, напротив, убеждены в том, что из той редакции романа, которую они считают последней, автор «Дневник» исключил.
При жизни Поплавского «Дневник» был напечатан в десятом номере журнала «Числа» за 1934 год, впоследствии два отрывка из него были включены Татищевым (под названием «Учитель» и «Был страшный холод…») в сборник «Дирижабль неизвестного направления» (1965). Еще один фрагмент «Дневника» — «Дали спали. Без сандалий…» — вошел (с добавлением двух строф) в посмертный сборник Поплавского «Снежный час». Некоторые фрагменты (с разночтениями и разбивкой на строки) были включены также в сборник Поплавского «Автоматические стихи».
Несомненно, «Дневник» представляет собой текст, однородный как в стилистическом, так и в семантическом плане. Очевидно также и то, что решение исключить «Дневник» из романа, даже если оно было сделано автором, нельзя назвать удачным, поскольку ведет к «вымыванию» (по крайней мере частичному) некоторых и без того герметичных смыслов, которые могут быть адекватно интерпретированы только в случае, если читать «Дневник» после самого романа. Но меня в случае интересуют не столько внутренние связи между собственно текстом романа и «Дневником», сколько стилистическая, синтаксическая и лексическая зависимость последнего от «Озарений»[477] Артюра Рембо.
«Дневник Аполлона Безобразова» открывается следующим стихотворением в прозе:
Кто твой учитель пения… Тот, кто вращается по эллипсису. Где ты его увидел… На границе вечных снегов. Почему ты его не разбудишь… Потому что он бы умер. Почему ты о нем не плачешь… Потому что он — это я (Аполлон Безобразов, 181).
О семантической нагруженности каждого из составляющих стихотворение элементов говорит, между прочим, частотность их использования в «Дневнике»; например, мотив пения является одним из самых важных: поет соловей — таинственный голос за сценой, а также механический тенор огромного роста, поют города сиренами своих заводов, в Мексике поет араукария, в поле — колосья и, наконец, под хлороформом поет отшельник. Это многоголосое пение является, по-видимому, формой воплощения той мировой музыки, которая, по Поплавскому, есть «раньше всего аспект связи частей в целом, аспект тайной власти целого над частями, а также аспект вечного схематического повторения всего» (Неизданное, 120). Музыка связывает все элементы в одно целое, если же ритм сочетается с символом и образом, то это ведет к рождению поэзии. О том, как важно расслышать эту музыку сфер, говорит дневниковая запись 1929 года: «Я сидел и слушал звезды, все они молчали, и одна лишь из них пела, и это пение стало моей жизнью и счастьем, и я полюбил ее навсегда из благодарности, что в ее пении я люблю ее, я спасу ее и погибну вместе с ней»[478] (Неизданное, 161).
В знаменитом письме к Полю Демени от 15 мая 1871 года (так называемом письме ясновидящего) Рембо также прибегает к музыкальной метафоре для того, чтобы описать процесс вызревания поэтической мысли:
Если медь просыпается горном, она тут ни при чем. Мне представляется очевидным: я присутствую при рождении моей мысли: я смотрю на нее, ее слушаю: я ударяю смычком: симфония шевелится в глубине или же сразу оказывается на сцене[479].
Этому пассажу непосредственно предшествует фраза, породившая множество интерпретаций: «Я есть другой»[480]. По мнению Сюзанны Бернар, она означает только то, что Рембо, осознав свой поэтический дар, превратился в другого человека, в Поэта, на которого снисходит божественное вдохновение. Поэт при этом не порождает свою поэтическую мысль, а как бы присутствует при ее рождении. «Ошибочно говорить: Я думаю, — формулирует он в письме к Изамбару. — Надо было бы сказать: Меня думают»[481].
Похожее рассуждение можно найти и в одном из вариантов «Аполлона Безобразова»:
…мы очищаемся и побеждаем себя, чтобы мыслить. Но когда мышление раскрывается, оно распускается в нас само, оно мыслится, а не мы его мыслим; выясняется, что в разуме нет личной жизни, всякое «я» становится бесполезным, и поэтому мышление печально, смиренно, и страх мышления справедлив (Неизданное, 381).
Медь, которая просыпается горном, или же дерево, которое вдруг оказывается скрипкой[482], претерпевают эти трансформации независимо от себя, от своей воли: не медь «мыслит» себя горном, а дерево скрипкой, но горн «мыслит» медь горном, а скрипка «мыслит» дерево скрипкой. То, что поэт оперирует понятием мышления, очень важно: это означает, что метод, заявленный Рембо, не сводится к пассивной фиксации образов и не требует превращения поэта в сюрреалистский «регистрирующий аппарат»[483]. Состояние, в котором он пребывает, парадоксальным образом совмещает в себе пассивность и активность: поэтическая мысль принимается поэтом пассивно, но при этом он не перестает быть наблюдателем этой мысли и тем самым не утрачивает способности контроля и отбора тех образов, которые получены им в момент вдохновения. Первый этап становления поэта — это самопознание; поэт «ищет свою душу, осматривает ее, испытывает, изучает». Как только он познает свою душу, он должен начать ее «возделывать», а именно превратить ее в монстра, в компрачикоса из романа Гюго «Человек, который смеется». Только так можно достичь ясновидения. «Поэт становится ясновидящим с помощью долгого, безмерного и продуманного разупорядочивания всех чувств»[484] (именно продуманного! — Д. Т.); затем, в тот момент, когда он перестает осознавать свои видения, он начинает их видеть так, как если бы они были реальны, и, входя в неизведанное, становится высшим Ученым[485], похитителем огня, создателем универсального языка, «…если то, что он приносит оттуда, имеет форму, он придает ему эту форму, если же оно формы не имеет, он придает ему бесформенность»[486].
Хотя «Озарения» достаточно разнородны как с точки зрения настроения, так и с точки зрения поэтического метода (некоторые имеют галлюцинаторную и онейрическую природу, другие более «рационалистичны»), можно в целом согласиться с С. Бернар в том, что
эстетика Рембо стремится к тому, чтобы освободить искусство и дух от ограничений, налагаемым концептуализмом и материальной реальностью; он устраняет категории времени и пространства, игнорирует принцип идентичности, сближает самые удаленные, противоположные элементы, море и небо, конкретное и абстрактное, «угли и пену» («Варварское»). И однако было бы неправильно говорить, что он ввергает нас в полный хаос, беспричинно умножая разрозненные элементы: подобное изобилие не означает распыления; видение Рембо всегда имеет не пассивный (как у сюрреалистов), а откровенно активный и синтетический характер. <…> Каждое стихотворение — это «напряженный, быстрый сон» («Бдения»): это именно Озарение, которое на очень короткое время, но с необыкновенной интенсивностью рисует перед нами видение, обладающее энергией картины или же ярко освещенной театральной сцены[487].
Поэтический метод Поплавского подразумевает то же движение от музыкальной по своей природе поэтической мысли, которая «мыслит» поэта, к ее воплощению в образе, чья интенсивность не уступает интенсивности картины или театральной постановки.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Книги похожие на "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе"
Отзывы читателей о книге "«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе", комментарии и мнения людей о произведении.