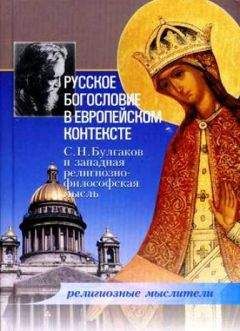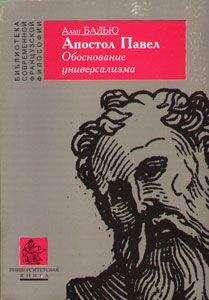Морис Мерло-Понти - Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века"
Описание и краткое содержание "Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века" читать бесплатно онлайн.
В сборник статей включены работы наиболее значительных французских философов второй половины XX века, в которых нашли отражение важнейшие философские темы этого периода — проблема смысла, сознания, тела, текста, чтения и письма. Материалы сборника знакомят с особенностями феноменологического и постструктуралистского подхода к анализу этих тем.
Сборник адресован специалистам в области философии, литературоведения, лингвистики, психологии и всем интересующимся историей французской философской мысли. Книга может быть использована в качестве хрестоматии для студентов и преподавателей гуманитарных факультетов.
Все тексты впервые публикуются в русском переводе.
Социальность не следует путать с разрывом, недостатком или нуждой, которые могли бы иметь место в единстве Единственного, где «совершенство» и законченность совпадения, однажды распавшись, вновь будут стремиться к целостности. Подчиняясь естественной витальности, заключенной в бытии сущего, в его праве «быть» (вплоть до игнорирования каких бы то ни было «проблем»), исходя из логически непрояснимой идентичности — поскольку она покоится на самой себе и обходится без специального разделительного знака, который совершенно необходим для идентификации, — исходя из основания идентичности Эго и назло упрямству чистой совести, неся в себе эту уникальную идентичность — возникает и рождается тревога ответственности. Не в силах решиться взять ответственность на себя, с тем чтобы удостоверить собственную идентичность, я пробужден беззвучным и императивным языком, с помощью которого говорит лицо Другого (не обладая при этом явной принудительной силой). Ответственность предшествует любому размышлению и представляет нечто такое, чему я был предназначен до того, как оказался предоставлен самому себе. Это — обет или посвящение?
Незабвенное прошлое
Ответственность выступает первичной по отношению к любому размышлению в границах логики, взывающему к разумному решению. Решение с необходимостью обернулось бы редукцией лица Другого к репрезентации, объективности видимого, принудительной силе, которая принадлежит миру. Первичность ответственности не может быть уподоблена априорной идее, которая берет свое начало в реминисценции. Если отнести ее к восприятию и промелькнувшему вневременному присутствию, исходящему из идеальности идеи или вечности настоящего, которое никогда не наступает, то ее длительность или диахрония времени оказались бы симуляцией, деформацией и отсутствием в конечности человеческого сознания.
В этической первичности ответственности «для-другого», в ее примате над рассуждением существует прошлое, несводимое к настоящему, которое должно было уже когда-то состояться. Это прошлое существует вне какого бы то ни было отнесения к тождеству; оно — простодушно, безыскусно, обеспечено самим правом на присутствие, где все должно было когда-то начаться. В этой ответственности я отброшен назад к тому, что никогда не было моей виной или моим поступком, к тому, что никогда не было в моей власти, не было моей свободой, моим настоящим, что никогда не запечатлевалось в моей памяти. В этой анархической ответственности, не требующей воскрешения в памяти каких-либо обязательств, заключена этическая значимость. В этом обнаруживается смысл прошлого, которое затрагивает меня, «имеет ко мне отношение», но это «имеющее ко мне отношение» находится за границей какой-либо реминисценции, ре-тенции, ре-презентации или связи с запоминаемым настоящим. Значение незабвенного прошлого, имеющего своим истоком ответственность по отношению к другому лицу, задает порядок гетерономии. Таково мое не интенсиональное участие в истории человечества, в прошлом других, которое «имеет ко мне отношение». Диахрония в приложении к прошлому, которая не собираема в репрезентацию, — это, по сути, и есть, в своей основе, конкретность времени, то есть время моей ответственности за Другого.
Ответственность за Другого не возвращает нас к мышлению, обращенному к идее a priori, уже заранее данной и вновь обнаруженной в «Я мыслю». Естественный conatus essendi суверенного «Я» поставлен под вопрос его смертностью и смертностью Другого, в состоянии моральной бдительности, благодаря которой суверенность Эго может осознать самое себя как «ненавистное», «отвратительное», а свое «место под солнцем» как «образ и начало захвата целого мира»5. Ответственность за Другого обозначила простую модальность «трансцендентальной апперцепции», которая выступает законом для меня, а не для этого другого лица. Данный закон касается меня без того, чтобы вернуть Эго предметному присутствию сущего, которое могло бы оказаться причиной подобного установления. Как я уже отметил, это опять-таки не вопрос получения приказа или подчинения ему после имевшего место размышления. В близости лица повиновение предвосхищает любое разумное решение для того, чтобы гарантировать порядок, который оно порождает. Пассивность этого подчинения — иного рода, нежели интеллектуальная восприимчивость, которая, в конечном счете, обращена на самое себя в актах восприятия, спонтанности и непосредственности понимающего схватывания. Здесь абсолютная чуждость подлинной инаковости не подвластна никакой ассимиляции присутствием, настоящим и совершенно чужда апперцепции «я мыслю», которая всегда обладает тем, чего достигает в виде представленного. Диахрония прошлого не может быть выравнена. Повиновение, предвосхищающее понимание приказа, утверждает безграничный авторитет. И это действительно так в отсутствие будущего, которое дается в на-ступлении [a-venir], где предвосхищение или протенция вплотную подходит к мраку временной диа-хронии, которая поддерживает авторитет императива.
Прошлое членит само себя, «мыслит само себя», не прибегая к помощи памяти, не обращаясь к «живому настоящему»; оно не заискивает перед ре-презентацией. Прошлое обозначается исходя из безусловной ответственности, которая переходит на Эго и придает ему значение как приказ без отнесения к каким-либо обязательствам, якобы предписанным, но почему-то забытым. Иными словами, прошлое имеет точное значение прочно укорененного обязательства, исходного по отношению к любому установлению и порядку, целиком черпающего свой смысл в том повелении, которое управляет Эго в лице Другого. Подобный императив категоричен, ибо он существует безотносительно к любому свободно принятому решению, которое, в том числе, могло бы «обосновать», «объяснить» или даже «оправдать» эту ответственность безотносительно к какому бы то ни было алиби. Незабвенное прошлое, имеющее значение само по себе, не «присутствующее» когда-либо ранее, обозначается исходя из ответственности «перед другими», где послушание становится единственно возможным способом отреагировать на приказ. Поэтому выполнение приказания не является следствием некоего изначального расположения Эго относительно Другого, которое может быть забыто или держится в тайне и принадлежит устройству самого Эго; это качество — не просто известное a priori, выступающее достоянием Эго и попросту разбуженное в нем лицом Другого. Понимание приказа как уже подчинения не выглядит решением, вытекающим из обдумывания, размышления, — даже если оно и диалектическое, где закон черпает свою непреложность в умозаключении. Зачастую власть этого распоряжения не превышает моей собственной власти. Приказ здесь как раз-таки опирается не на силу. Он приходит в лице Другого как отрицающий принуждение, как отвергающий собственную силу и, вообще, любое насилие. Его авторитет не поддается формальному, онтологическому определению. Его гетерономия не обязательно означает рабскую зависимость. Это — гетерономия беспрекословного авторитета, но зависимая от нужд иного существования, от его невозмутимой поступи, от его заботы о собственном бытии. Ведь это действительно новость в плане этики, когда непослушание и грех не опровергают авторитет и добродетель, и те, пусть слабые, но совершенно автономные, отплачивают нечистой совестью. Последнее не свидетельствует ни о неполноте мышления, которое будто бы очевидно в этом ненасилии, ни о его возможной неразвитости. Это могло бы означать одно, необычное — так как задействовано поверх границ памяти, размышления, грубой силы — неодолимое звучание голоса, которое внушает слово Божье.
Чистое будущее
Значимость исходит из авторитета, который значим, несмотря на мою смерть и после моей смерти, из авторитета, означающего для конечного Эго, для Эго, осужденного на смерть, значимый порядок по ту сторону этой смерти. Разумеется, это — не обещание воскрешения, а скорее, констатация того, что смерть ни от чего не освобождает, а ведет к будущему, строго говоря, противоположному времени репрезентации, времени, пожертвованному в угоду интенциональности, — где за «Я мыслю» остается всегда последнее слово — которое этому будущему обманом вручает его полномочия.
Ответственность за другого — это как право умереть за него! Это как «другость» Другого — далекого и близкого одновременно. Она, благодаря моей «ответственности», затрагивает само настоящее, которое вновь и вновь собирает себя в тождественности «Я мыслю» в присутствие и репрезентацию. Но она также указывает предел моему эгологическому обеспечению, обозначенному интенциональным мышлением, указывает предел, который в моем «бытии-к-смерти» уже предначертан и предвосхищен в имманентности сознательного существования. В пароксизме, в припадке близости к ближнему, лицо другого человека — истолковывать его как репрезентацию нет видимой причины — демонстрирует свой собственный, императивный способ наделения смертного Эго тем или иным значением путем возможного истощения его эгологического Sinngebung и предполагаемого бесстыдства всех значений, происходящих из этого Sinngebung. Как раз в Другом и открываются значение и долженствование, которые обязывают меня и за порогом смерти! Будущность будущего не настигает меня как «наступающее.» [a-venir], как горизонт моих предчувствий и пред-видений. Не следует ли, исходя из этого императивного значения будущего, что касается меня в моем не-без-различии к другому, в долженствовании по отношению к незнакомцу, не следует ли — в этом зазоре естественного порядка бытия — понять, наконец, что же мы столь неуместно, даже неприлично, зовем сверх-естественным? Разве это не означает необходимость понять порядок, который оказался бы словом Божьим или, точнее, явился бы в облике идеи Бога, будучи включен в словарь, откуда уже и извлекаются «осознание» и именование Бога в любом возможном Откровении? Будущность будущего — это не «доказательство бытия Бога», а «придание Богу значения». Здесь обнаруживает себя чудесная тайна длящегося времени, за границей его значимости в качестве присутствия или сведения к присутствию (что восходит к самому Св. Августину) — теологическому времени «с-Богом» [a-Dieu].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века"
Книги похожие на "Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Морис Мерло-Понти - Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века"
Отзывы читателей о книге "Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века", комментарии и мнения людей о произведении.