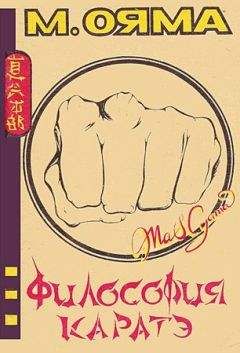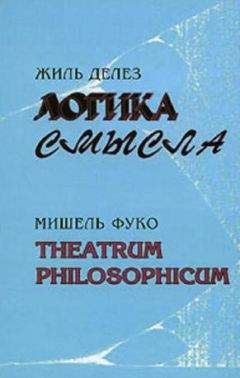Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия
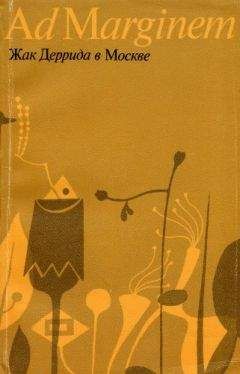
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия"
Описание и краткое содержание "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия" читать бесплатно онлайн.
Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж. Деррида, принимают участие философы Н. Автономова, В. Подорога и М. Рыклин. В приложении приводятся краткие биографические сведения о Ж. Деррида и библиография его основных произведений. Для читателей, интересующихся современной философией и культурой.
Это не мешает журналисту по совместительству быть «рапсодом вечного». Стейнбек вспоминает, что у американских журналистов в 1947 году была любопытная игра. Читался текст приблизительно такого содержания: «Русские в Москве очень подозрительно относятся к иностранцам, за которыми постоянно следит тайная полиция. К каждому иностранцу приставлен агент. Кроме того, русские не принимают иностранцев у себя дома и даже боятся, кажется, с ними разговаривать» и т. д. и т. п. Потом новичка спрашивали: «Ну, что вы об этом думаете?» — «Я думаю, что это нельзя будет протащить через цензуру». — «Это было написано в 1634 году. Это из книги, которая называется „Путешествие в Московию, Татарию и Персию“, написанной Адамом Олеарием. А вот послушайте отчет о московской конференции…» И зачитывался текст другого путешественника XVII века.
Аналогичным перечислением «вековых предрассудков» заканчивает книгу «Русские» Хедрик Смит в 1975 году76. Дурная повторяемость русской истории возводится к Ивану Грозному и ранее. А более чем за сто лет до него наблюдения маркиза де Кюстина зеркально накладывались на увиденное в XVII веке другим путешественником, Герберштейном77.
Революционный эпизод тонет в океане повторяемости, нудной воспроизводимости начал без начала. А поскольку сами «возвращения» омываются теми же водами, водами тождества, тема «вечной России» просачивается и в них. Этот жанр располагается на пересечении многих жанров, которые не имеют между собой ничего общего. В этом обширном интертекстуальном поле западных ожиданий после 1917 года Москва зарождается как окончательный объект их приложения, привилегированный в силу радикальности провозглашенного там эксперимента; центр революционных упований смещается туда после Октябрьской революции, окончательной, как казалось тогда, победы «мы-измерения» — во всей многозначности этого «мы», от полисемии которого, как мы видели, не уберегся и А. Жид, — над буржуазной атомизацией. И не случайно современные западные интеллектуалы, причем не только левые, сожалеют о распаде московской лаборатории, даже если неудача эксперимента предвиделась заранее (кого-то отпугнули московские процессы, кого-то — хрущевский доклад, кого-то еще — события 1956, 1968, 1979 гг.), даже если обещание было признано невыполненным, фальсифицированным, извращенным. Почему даже такая запоздалая трезвость не в силах оградить от сожалений? Не потому ли, что Великий Другой функционален не сам по себе (как того требовала привилегия позиции «изнутри», выветрившаяся уже к середине 30-х гг.), а во внутреннем поле отношений власти, сложившихся в странах, которым он был нужен именно в качестве Другого, нужен прежде всего инфраструктурно, вне идеологических деклараций? С его крушением драматически меняется внутреннее соотношение сил в этих странах, исчезают целые фрагменты реальности власти/запрета; короче, в мире, и так уже удручающе имманентном, туристы, эти визитеры собственного будущего, теряют один из последних отблесков трансцендентного, становятся еще более имманентны самим себе. «Небесная» Москва содержала возможность невозможного, Другого даже для тех, кто давно проклял эмпирическую Москву за то или иное проявление ее диаболизма, несправедливости, репрессивности, брутальности.
Неожиданное «растворение» СССР в конце 1991 года предстает как акт впечатляющего геополитического дезертирства со стороны общества, которое извне смотрелось как монолит, хотя внутренне было одним из самых хрупких и нестабильных. Последствия этого дезертирства, в том числе интеллектуальные, будут сказываться еще много лет, и чем дальше, тем меньше они будут оцениваться в терминах победы либерализма и универсализации рыночной модели. В это время можно ожидать состояния определенной неустойчивости, подвешенности, когда привычных понятий и вещей, «das Zuhandene», как говорил Хайдеггер, постоянно не будет оказываться под рукой.
Начинает складываться третья — после «возвращений из СССР» и апелляций к здравому смыслу — парадигма осмысления советского опыта, отмеченная, по словам Деррида, условиями «обратного направления» и «самонадеянности», этой современной формы так пугавшего греков ύβρις'а. Формообразование на этом этапе идет уже по модели западных парламентских демократий, считающейся единственно спасительной и, главное, апробированной на самом Западе, владеющем ее надежным экспортным вариантом. Тем самым демократия упраздняется в своей всегда-еще-неданности, как усилие, вектор которого направлен в будущее. В форме экспортируемого либерализма она становится модулем, матрицей, машиной, устройство которой предполагается досконально известным производителю, а это и есть «самонадеянность». Теперь уже не «мы» устремляемся в погоню за «ними», ушедшими вперед с революционным факелом, теперь, наоборот, проверяется то, насколько «они» близки к «нам». (Много ли асимметрии заключено в фигуре инверсии? В наложении «у себя» уже не на Москву как на привилегированный топос, а в поисках этого «у себя» повсюду как единственно данного и универсального, как модели для воспроизведения и подражания? Разве любое, даже самое мелкое, различие не более радикально с логической точки зрения, чем переворачивание одного и того же, обнажение его изнанки? Во всяком случае, и деконструкция, и политическая семиология, и шизоанализ побуждают нашу мысль двигаться в этом направлении.) Либерализм — это симулякр демократии, и теперь каждый турист разъезжает со своим собственным Демофооном (обычно это персональный компьютер, фотоаппарат, кинокамера или другое орудие фиксации тождества). Тем самым путешествие ликвидируется в своем трансцендентном измерении, эйдос туризма как способа потребления мира оказывается полностью реализованным, исчерпанным.
Но остаются и константы, унаследованные от достаточно почтенной древности. Например, «бытие-в-строительстве», создающее устойчивую иллюзию быстрого преодоления наличного состояния вещей. В 1926, 1934, 1947, 1958, 1975 гг. констатируются «одни и те же» (повторяю, самое подозрительное здесь — это тождественность «картин») недостатки: очереди, низкая производительность труда, нехватка товаров — но констатируются, как всегда, в перспективе скорейшего преодоления, т. е. статус вечного опять получает само мгновение, hic et nunc, переходность, период полураспада. Но через много лет новый путешественник застает ту же (?!) картину, признаваемую им столь же бренной и столь же быстро преодолимой. Отдельные детали этой картины часто имеют вековую историю. Дух фактически продолжает выполнять свои процедуры в пустоте, дурная повторяемость русской истории такова, что инфернальное колесо понимания вращается здесь впустую, не извлекая на поверхность ничего, кроме тождества, идентичности, одного и того же. В этих записках, заметках, дневниках есть что-то от усилий Сизифа. Каждый очередной Сизиф пребывает в убеждении, что затаскивает на гору последний камень, актом описания с позиций разума делая невозможной такую псевдореальность. Читаешь рассказы о путешествиях и проникаешься убеждением, что в этой стране история протекает в каком-то другом месте, постоянно ускользает от разума, бросает ему немой, бесконечно повторяемый вызов. Короче, симулякр проявляет исключительную устойчивость и обладает явным иммунитетом к разоблачениям внешних наблюдателей.
Метафизика предстает самой себе в виде рефлексии, которой, как утверждает ряд современных философов, на инфраструктурном уровне «отвечают» флексии, или то, что Ж. Деррида называет идиомами. Если способность флексии зарождаться от логоса исторически и подвергалась сомнению, то скорее в смысле права на существование самих флексий, а не в смысле ограничения пневматического законодательства логоса. Деконструкция же ставит саму метафизику в зависимость от флексий и идиом, делает ее производной, производимой собственной текстурой.
Убирая зеркало рефлексии, она делает спекуляцию, т. е. особого рода зеркальность, не более чем совокупным эффектом ряда более сложных закономерностей на микроуровне. Начало в таком случае есть всегда начало дисперсии, дисперсия начала. Деррида выделяет «возвращения из СССР» в особый жанр, отмеченный эффектом отсроченного присутствия; перемещение в пространстве в данном случае нужно путешественникам только для того, чтобы вернуться к себе, на «избранную родину», оно необходимо для удвоения самого принципа присутствия, его укоренения (отважусь на неологизм) в геопрофетическом месте, в месте без места. Понятно, что Деррида, подвергая этот опыт испытанию на деконструктивном «критериологическом механизме», сам уходит от прямого рассказа о путешествии в Москву, от насыщения так называемых впечатлений какой-либо прогностикой, футурологией, предвидением. Это не значит, что отсутствуют сами впечатления, но посредством анализа «возвращений из СССР» он запускает в действие «критериологический механизм», с помощью которого, в числе прочего, исчерпывает и возможности собственного рассказа о путешествии. Впрочем, жанр «возвращений» дожил до времени перестройки в перевернутом виде: в Москву приезжают уже не ради инспекции собственного будущего, не для того, чтобы справиться о здоровье «лучезарного младенца», а напротив, прибывают с целью убедиться на месте, движется ли СССР в правильном, апробированном Западом направлении, будет ли его будущее соответствовать «нашему» настоящему (парадоксальным образом это настоящее теперь играет роль «лучезарного младенца» Демофоона, — чудесный случай омоложения). Деррида застает феномен советизма на закате, размельченным на дублирующие его многочисленные национализмы. Ретроспективная диагностика Деррида, выделение им «возвращений из СССР» в особый жанр, наподобие паломничеств ко Гробу Господню, мениппей или рыцарского романа, предполагает исчерпанность Москвы как центра эсхатологического смыслопорождения. Этот ход подводит черту под целой эпохой. Радикальный отказ от процедуры инспекции во всех трех ее разновидностях — революционной, здравосмысловой, рыночной — позволил французскому философу, вопреки коварным предположениям московских собеседников, понять, что перестройка, несмотря на некоторую этимологическую близость, вовсе не есть деконструкция, а есть довольно агрессивная политика присутствия, самоданности в уповании на реализацию в будущем, политика, требующая жертв и самоотречения ради потенциального, возможного, которое запредельно следам, дисперсии, остатку. Перестройка лишена локализации, развертки, устремлена вовне, в который раз — это нечто не принадлежащее себе, сохраняющее нетронутой энергию имени собственного (Горбачев, завершающий собой авторитарный порядок присутствия).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия"
Книги похожие на "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жак Деррида - Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия"
Отзывы читателей о книге "Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия", комментарии и мнения людей о произведении.