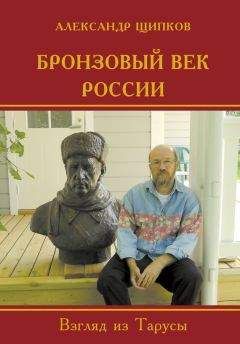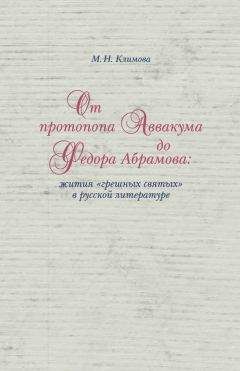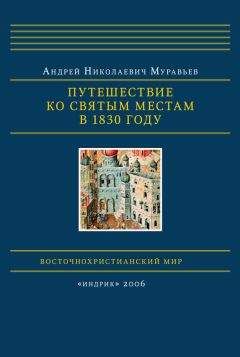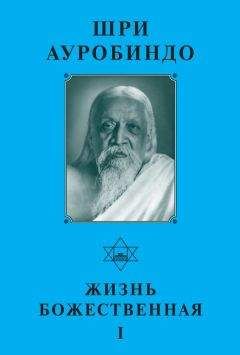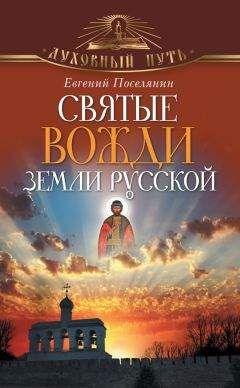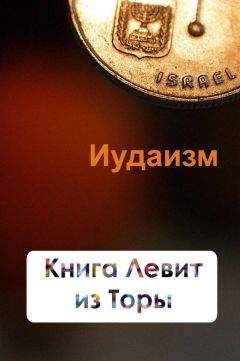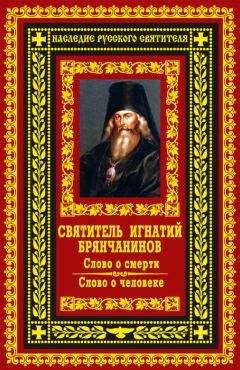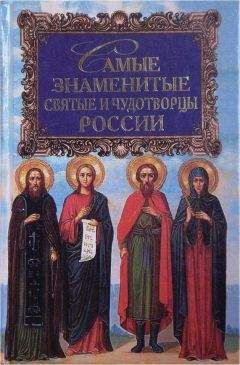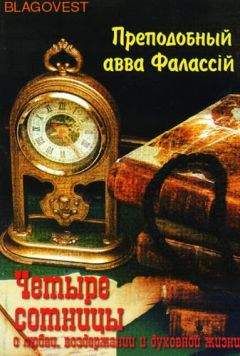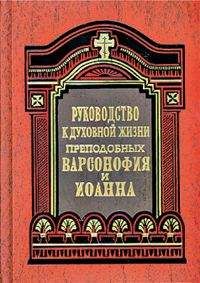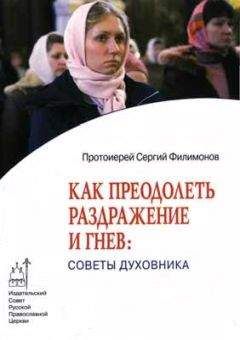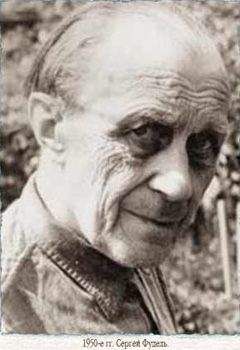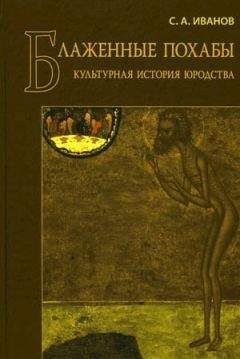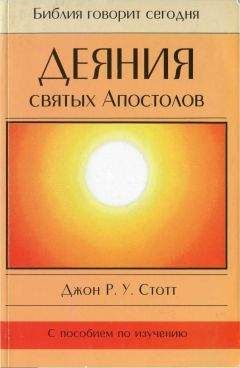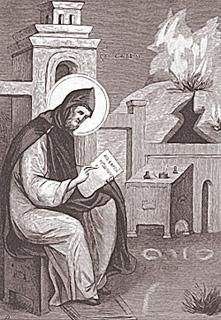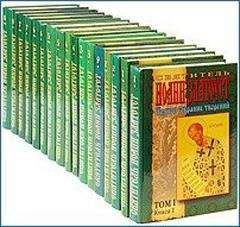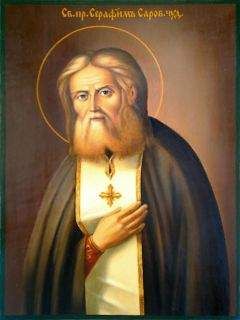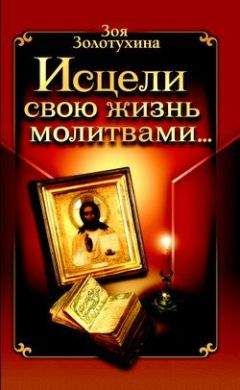Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.
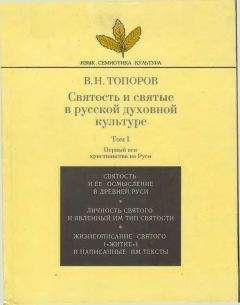
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."
Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре — ее происхождению, выяснению исходного значения слова, обозначающего святость (*svet-), и роли мифопоэтического субстрата, на котором формировалось понятие святости, и прежде всего тому, как после принятия христианства на Руси понималась святость в наиболее диагностически важном персонифицированном ее воплощении — в ее носителях, святых. Как правило, каждая часть книги строится вокруг трех основных тем — а) личность святого, б) тип святости, явленный святым, в) «основной» текст, связанный со святым — его «Житие» или собственное сочинение. Особое внимание уделяется историческому контексту и духовной ситуации эпохи, проблеме творческого усвоения наследия ветхозаветной традиции, греческого умозрения, гностицизма, не говоря уж, конечно, о Новом Завете и святоотеческом наследии. В этом кругу естественно возникают еврейская, греческая, иранская темы. Без них трудно понять специфику явления святости в русской духовной традиции.
Издание осуществлено при финансовой поддержке международного фонда «Культурная инициатива».
Для удобства чтения/понимания неподготовленными читателями и правильного отображения текста на большинстве электронных устройств чтения при верстке электронной версии книги выполнены следующие замены:
1. Буква "ук" заменена на букву "у".
2. Буква "есть" заменена на букву "е".
3. Буква "от" заменена на сочетание "от".
4. Буква "омега" заменена на букву "о".
5. буква "зело" заменена на букву "з".
6. Буква i оставлена, как есть.
7. Буква "ять" заменена на букву "е".
8. Буква "(и)я" заменена на букву "я".
9. Буква "юс малый" заменена на букву "я".
10. Буква "юс большой" заменена на букву "у".
11. Буква "юс большой йотированыый" заменен на букву "ю".
12. Буква "(и)е" заменена на букву "е".
13. Буква "пси" заменена на сочетание "пс".
14. Буква "фита" заменена на букву "ф".
15. Буква "ижица" заменена на букву "и", либо "в" по контексту.
16. При сомнении в правильности использования букв "ер" и "ерь" применено написание в согласии с церковно–славянским словарем.
17. В некоторых случаях для ясности при чтении буква "ерь" заменялась на букву "е" (например: "хрьстъ" заменено на "хрестъ", "крьстъ" на "крестъ", "чьсть" — на "честь").
18. Сербская буква ђ (6-я алфавита) заменена на "ч".
19. бг под титлом заменено на Богъ.
20. члкъ под титлом заменено на человекъ.
(Следует напомнить читателю, что в старо–славянском буква "ь" в середине слова читается как редуцированное закрытое "е"; буква "ъ" читается как редуцированное закрытое "о", а сочетания "шя", "штя" и ряд других читается твердо (как "ша", "шта").
В части этих случаев правка не делалась.
Кроме того, вертикальная черта заменена на косую.
Разрядка шрифта заменена на жирный.
Но при всех этих сложностях, неясностях и разноречиях для религиозного сознания главное ясно: святой — это тот человек, в ком пребывает особый вид духовно благодатного возрастания, называемого святостью. Это определение лишь по внешнему своему виду тавтологично: неясность относится к тонкостям в понимании святости, но не ее носителя. На Руси святость рано стала высшим идеалом, высшей духовной ценностью. Пансакральная установка, о которой говорилось выше, объясняет соборный образ святости — Святую Русь. При этом, конечно, нужно помнить, что существенна не сама оценка реального соответствия Руси и выдвигаемого ею перед собой понятия святости, но направленность на святость вопреки всему, признание ее высшей целью, сознание неразрывной — на глубине — связи с нею и вера во всеобщее распространение ее в будущем. Образ же Святой Руси полнее всего передает собор святых, предстателей перед Богом и одновременно дар Ему от Святой Руси. «Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния, земля Российская приносит ти, Господи, вся святыя, в той просиявшие. Тех молитвами в мире глубоце церковь и страну нашу Богородицею соблюди, многомилостиве», — говорится в «Тропаре всем святым в земли Российстей просиявшим».
«В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России, — писал Г. П. Федотов во введении к книге о святых Древней Руси, — в них мы ищем откровения нашего собственного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание и, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки». В этих словах наиболее ярко определена роль святых в духовной жизни на Руси. Это святое наследие духовной культуры, хранимое и развиваемое народом, этим же наследием живущим и вскармливаемым, слишком многое объясняет и в высших достижениях секуляризованных форм русской культуры, отмеченных исключительной напряженностью духовных исканий и устремленностью к нравственному идеалу человека. Но ведь и вся русская агиография, насчитывающая сотни житий и еще больше их редакций, характеризуется именно этими чертами. К сожалению, большинство исследователей склонны концентрировать свое внимание на повторах, клише, заимствованиях и влияниях, «наивностях», оставляя в стороне тот удивительный факт, что перед нами огромная литература о лучших людях, просветленных верою и избравших себе образцом для подражания жизнь Христа, об их жизненном подвиге, об их святости, о том идеальном мире, которому они учили и который существовал и для составителей житий и для их читателей и слушателей, и, следовательно, о духовных устремлениях самих этих людей. В этом отношении ничто в древнерусской литературе, как и в литературе более позднего времени, не может сравниться с этой энциклопедией святости и ее носителей.
Тема святости на Руси есть в известном смысле и тема самой Святой Руси. Для многих это понятие и стоящее за ним явление имеет первостепенную важность. Для многих же «Святая Русь» — ложное определение некоего фантомного (и это в лучшем случае) явления или (хуже того) явления, несоответствующего идеалу святости и даже противоположного ему, и тогда эта формула вызывает широкий спектр реакций — от сомнений, иронии, некоей безобидной насмешки, которую вызывает всякое несоответствие широковещательно объявленной, с большими претензиями на исключительность задачи, наличной реальности, и вплоть до решительного неприятия и соответствующего такому неприятию отношения. Что же, и тех и этих «многих» понять можно, и у каждой стороны — свои аргументы, свои представления и, если угодно, своя искренность (о ситуациях, когда нет этой последней, нет смысла и говорить: здесь все ясно). Конечно, нужны разъяснения и ограничения, контроль как над чувствами и даже показаниями интуиции, так и над выводами рассудка, отпущенного на волю и опирающегося исключительно на самого себя.
Несомненно, понятие Святой Руси таит в себе нечто оповещающее о подлинной жизни духа, о некоем благодатном состоянии, и каждый человек сам должен определять, воплощены ли эти ценности в жизнь и насколько, или они не более чем чаемое. Но это же понятие таит в себе и другое — опасные соблазны, которые могут привести и действительно приводят к гибельным следствиям, если не определено, что вкладывается тем, для кого за этим понятием стоит несомненная реальность. Поэтому, при беспечном, а иногда и сознательно бесчестном отношении к формуле Святой Руси, она так сильно и опасно поляризует общество, способствуя укреплению духа «ненавистного разделения», о котором говорил еще Сергей Радонежский.
Две отчетливо оформившиеся и имеющие за собой длительную традицию тенденции в русской исторической жизни спорят за правильное понимание того, что такое Святая Русь, и какой она должна быть и что она должна ответить на старую дилемму, сформулированную Владимиром Соловьевым, — Каким же хочешь быть Востоком: / Востоком Ксеркса иль Христа? и перенесенную даже в то священное пространство, благодатно осененное именем Христа, но, увы! нередко уже отравляемое и ядами «ксерксианства». Эти две тенденции проходят через всю историю страны, ее христианства и ее Церкви.
Одна из них («ксерксианская», говоря условно) ставит по сути дела «русское» выше христианского или — что почти то же самое — считает, что христианское исчерпывается до конца опытом русской христианской жизни. Эта тенденция, столь отчетливая и, пожалуй, как никогда агрессивная сегодня, заявляет — без достаточных на то оснований, а нередко и вовсе безосновательно — претензии на единоличное обладание всей полнотой христианства и истиной о Христе, отказывая в этом всем другим, видит в Церкви не более чем «проекцию России», хотя сама Россия, как писал незадолго до своей смерти отец Александр Шмеман, нуждается «в таком критерии, который был бы ее и выше ее, и этим критерием является полнота Церкви», потому что «не может быть какая–то часть критерием целого» («Духовные судьбы России»). Болезнь исторической национальной гордыни, самодовольства, переходящего в спесь и неуважение к другим, хвастовства, шапкозакидательства, суетности или мнимого смирения — лишь часть признаков этой тенденции, особенно демонстративно эксплуатирующей понятие Святой Руси (не говоря уж о таких преступных следствиях этой болезни, как человеконенавистничество, ксенофобия, антисемитизм, которые открыто направлены против заветов Христа и христианского универсализма). Реальности такой «Святой Руси», строимой людьми этого направления, где бы они ни были — в миру или даже внутри самой Церкви — не могут быть иными, нежели ложными, демоническими и в конце–концов несущими в себе гибель.
И все–таки Святая Русь — есть, и именно она, другая, — та подлинная реальность, которая противостоит духу «ненавистного разделения», которая умножает и углубляет слой святости в русской жизни вот уже тысячу лет и которая, дорожа своим русским образом святости, хорошо знает, что ее святость никак не отменяет и не становится поперек святости других народов. Эта Святая Русь, о которой можно говорить без всякого рода «ограничительно–ухмылочных» кавычек, но лучше все–таки говорить о ней с самим собой, то есть думать о ней в глубине своего сердца, — именно тот «остаток», который, пройдя через все испытания истории, сохраняется на Руси. Это как раз святые, канонизированные Церковью, и просто те, о ком говорят «святой человек», «святые люди», чьи приметы — смирение, но и духовная неуспокоенность, подвижничество, неустанный поиск Правды и жизнь по правде–справедливости, истинное духовное покаяние, понимаемое как «попытка увидеть себя глазами Бога» (Шмеман) или, иная сторона того же, постоянно предстоять Богу. На этом историческом пути Святая Русь уже обрела великие духовные ценности — святых людей, святое слово, святые образы–образа (иконы), устремленность к святому и верность ему, открытость будущему, мыслимому как торжество святости. Уже цитированный священник и богослов писал: «Если мы твердо верим в то, что русское государство, историческая Россия, которая существовала прежде, и есть Святая Русь и нам остается только вернуться к ней […], тогда мера нашей гордыни безусловно превышена и Бог заслуженно посрамил нас нашим страшным историческим падением. Хотели бы мы и дальше при всех наших падениях и блужданиях мерить себя только этим критерием? […] Итак, говорить сегодня о судьбах России вовсе не значит готовить себя к возвращению в прошлое — это погибель. То, что случилось с Россией, было дано ей и нам как ужасное испытание и одновременно как возможность для пересмотра всего нашего прошлого и для очищения. Слово "кризис" означает суд. И суд совершился. Поэтому всем нам сегодня надо напрячь до предела совесть. Именно совесть. […] Совесть объединяет всё. Она позволяет заново увидеть Россию в ее прошлом и настоящем и, может быть, начать чувствовать, в чем должно состоять будущее На каждом из нас, русских христианах, лежит долг подвига — в меру своих сил […] способствовать тому, чтобы духовная судьба у России была. И чтобы эта духовная судьба хотя бы в какой–то мере соответствовала тому удивительно чистому и светлому определению, которое кто–то когда–то произнес и которое осталось как мечта и чудо, как замысел, как желание: Святая Русь».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."
Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1."
Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.", комментарии и мнения людей о произведении.