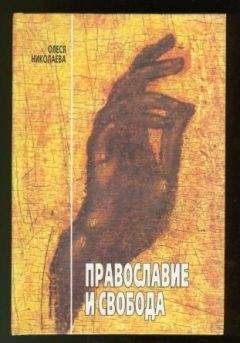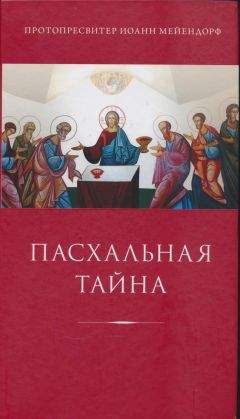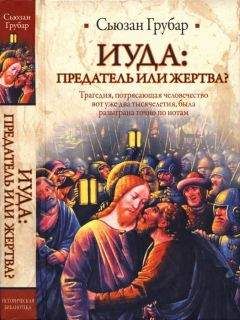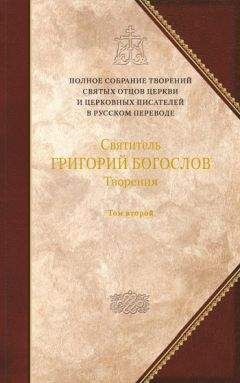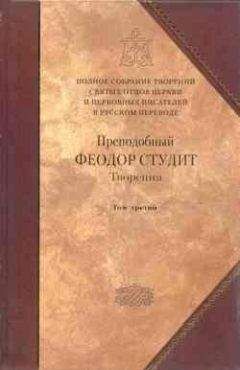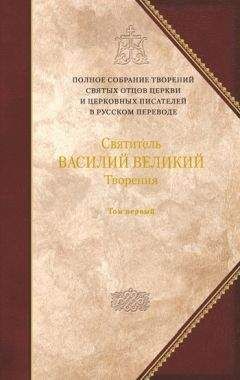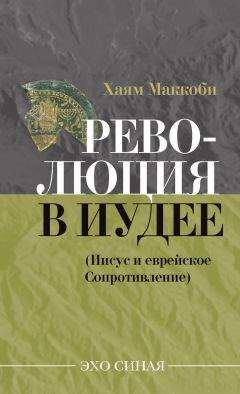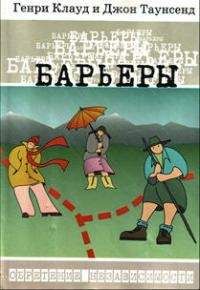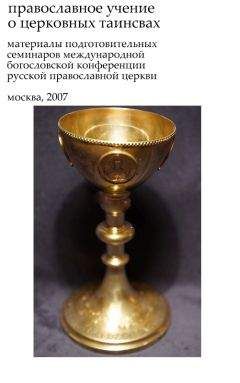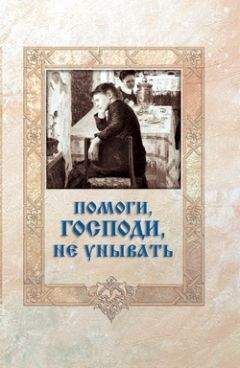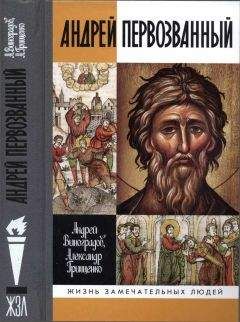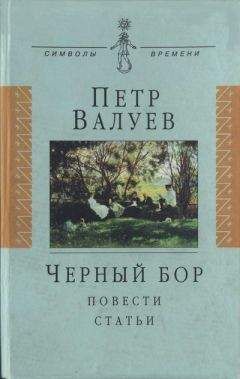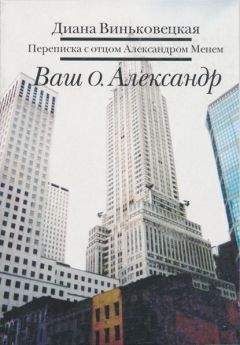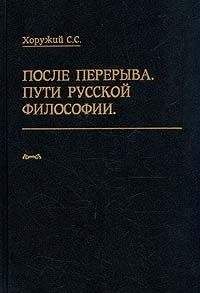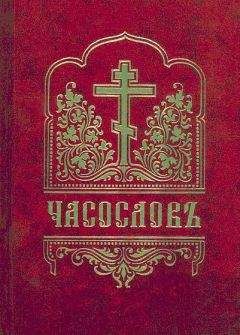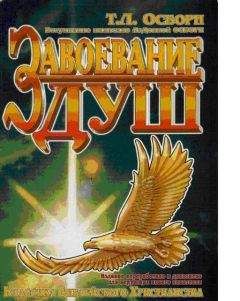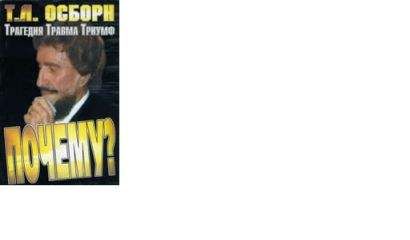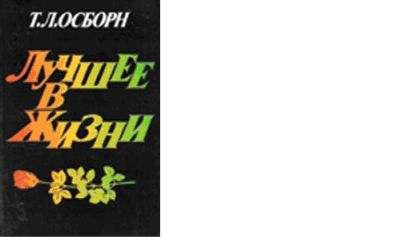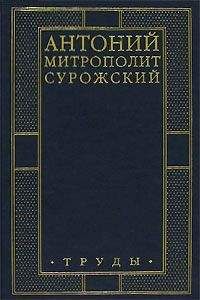Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)
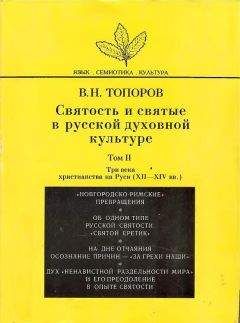
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Описание и краткое содержание "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена исследованию святости в русской духовной культуре. Данный том охватывает три века — XII–XIV, от последних десятилетий перед монголо–татарским нашествием до победы на Куликовом поле, от предельного раздробления Руси на уделы до века собирания земель Северо–Восточной Руси вокруг Москвы. В этом историческом отрезке многое складывается совсем по–иному, чем в первом веке христианства на Руси. Но и внутри этого периода нет единства, как видно из широкого историко–панорамного обзора эпохи. Святость в это время воплощается в основном в двух типах — святых благоверных князьях и святителях. Наиболее диагностически важные фигуры, рассматриваемые в этом томе, — два парадоксальных (хотя и по–разному) святых — «чужой свой» Антоний Римлянин и «святой еретик» Авраамий Смоленский, относящиеся к до татарскому времени, епископ Владимирский Серапион, свидетель разгрома Руси, сформулировавший идею покаяния за грехи, окормитель духовного стада в страшное лихолетье, и, наконец и прежде всего, величайший русский святой, служитель пресвятой Троицы во имя того духа согласия, который одолевает «ненавистную раздельность мира», преподобный Сергий Радонежский. Им отмечена высшая точка святости, достигнутая на Руси.
Ниже представлена часть более обширного ненапечатанного текста под названием «Об одном типе святости: Авраамий Смоленский». В этой части в центре внимания — проблема, имеющая отношение к «гностическому» у Авраамия, как оно видится в свете «глубинных книг», и сами эти книги, о которых известно только из «Жития Авраамия», в свете их возможной реконструкции, о чем, впрочем, обстоятельнее предполагается сказать в другом месте.
* * *
Среди текстов и авторов, в той или иной степени отраженных в «Житии Авраамия Смоленского» или с большей или меньшей достоверностью предполагаемых (а иногда даже и реконструируемых) и с известным вероятием знакомых и самому Авраамию и использовавшихся в его проповедях, здесь будет говориться только об одном источнике книжного происхождения, о котором упоминается в «Житии» и который вызвал столько неверных или весьма неопределенных и приблизительных объяснений. Этот источник представляется особенно важным прежде всего потому, что он бросает луч света на тайну авраамиевой «ереси».
Речь идет о так называемых «глубинных книгах», упоминаемых в «Житии», в том его месте, где говорится о воздвижении гонений на Авраамия. Но яко есть пасущихъ душа приимати беды, и вшедъ сотона въ сердца бесчинныхъ, въздвиже на нь: и начата овии клеветати епископу, инии же хулити и досажати, овии еретика нарицати, а инии глаголаху на нь — глубинныя книгы почитаеть, инии же къ женамь прикладающе, попове же знающе и глаголюще: «Уже наши дети вся обратилъ есть»; друзии же пророкомъ нарицающе и на ина же многа на нь вещания глаголюще, их же блаженый чюжь [122].
Ознакомившись с кругом чтения Авраамия, мы тем не менее рискуем не узнать главного — того, что привлекало Авраамия в знакомых ему авторах, среди которых были и такие «тематические» энциклопедисты, как Иоанн Златоуст и Ефрем Сирин, и в соответствующих текстах, также достаточно разнообразных по своим темам. И, собственно, пытаясь понять это «что» Авраамия, надо прежде всего отдать себе отчет в том, что «тематическое» здесь образует лишь поверхность явления, относительно экстенсивный его ракурс. Точнее говоря и стремясь приблизиться к сути, доступной узрению лишь в ее интенсивном ракурсе, вопрос может быть сформулирован следующим образом — что было для Авраамия как человека и религиозного деятеля главным жизненным переживанием, в котором он наиболее полно и глубоко выразил себя, что было тем постоянно присутствующим видением, которое определяло его жизненный путь и всю стратегию поведения, что более всего захватывало его душу и ум — настолько, что он стал своего рода заложником этого виде́ния?
Ответ может быть дан даже при поверхностном знакомстве с текстом «Жития» Авраамия: это — эсхатологическое виде́ние конца времен, Страшного Суда, столь потрясшее Авраамия и навсегда, видимо, ставшее сильнейшим жизненным впечатлением, мучительным, незабываемым, неотвязным, требующим ответа, который и продолжался для Авраамия всё время его служения. Видение Страшного Суда всегда стояло перед его глазами и уже прижизненно стало его испытанием. Это свое эсхатологическое «умочувствие» Авраамий, видимо, старался передать своему духовному стаду через проповеди, поучения, толкование книг, поступки, поведение человека, как бы постоянно пребывающего в ситуации «последнего» часа [123], требующей соответствующего ей «благочестия» и нравственной установки [124], с одной стороны, и постоянной, максимальной, живой связи с людьми, с другой. «Своего» времени у Авраамия уже не было: всё было уже взвешено, и секира уже лежала при корени древа. В предчувствии неотменимой беды он молил Бога отвратить гнев, послать милость, даровав мир и покой. Об этом говорится в «Житии»:
Бе бо блаженый хитръ почитати, дастъ бо ся ему благодать Божиа не токмо почитати, но протолковати, яже мноземъ несведущимъ и отъ него сказанная всемъ разумети и слышащимъ; и сему из устъ и памятью сказан, яко же ничто же сея его не утаить божественыхъ писаний, яко же николи же умлъкнуша уста его къ всемъ, к малымъ же и к великымъ, рабомъ же и свободнымъ, и рукоделнымъ. Тем же ово на молитву, ово на церковное пение, ово на утешение притекающихъ, яко и в нощи мало сна приимати, но коленное покланяние и слезы многы отъ очью без щука излиявъ, и въ перси биа и кричаниемъ Богу припадая помиловати люди своя, отвратити гневъ свой и послати милость свою, и належащимъ бедъ избавити ны, и миръ и тишину подати молитвами Пречистыя Девы Богородица и всехъ святыхъ.
И далее в «Житии» следует первый достаточно полный фрагмент авраамиева текста «Страшного Суда» в связи с двумя написанными им иконами, посвященными по сути дела единой теме:
Написа же две иконе: едину Страшный судъ втораго пришествиа, а другую испытание въздушныхъ мытарьствъ, их же всемъ несть избежати, яко же великый Иоанъ Златаустъ учить, чемеритъ день поминаеть, и самъ Господь, и еси святии его се проповедають, его же избежати негде, ни скрытися, и река огнена предъ судилищемъ течеть, и книгы разгибаются, а судии седе, и дела открыются всехъ. Тогда слава и честь, и радость всемъ праведнымъ, грешным же мука вечная, ея же и самъ сотона [125] боится и трепещеть.
Да аще страшно есть, братье, слышати, страшнее будетъ самому видети (ср. Дан. 7, 10).
Но эта тема возникает в «Житии» с отчетливостью еще дважды. После смерти епископа Игнатия, с которым Авраамий жил в любви (по такой любви поживъ) и в радости, он боле начать подвизатися […] о таковемъ разлучении преподобнаго въ смирении мнозе и въ плачи отъ сердца съ воздыханиемъ и съ стенаньми, поминааше бо о собе часто о разлучении души от тела. Блаженый Авраамий часто собе поминая, како истяжуть душу пришедшеи аггели, и како испытание на въздусе отъ бесовьскыхъ мытаревъ, како есть стати предъ Богомъ и ответь о всемъ въздати, и в кое место повезуть, и како въ второе пришестие предстати предъ судищемъ страшнаго Бога, и какь будетъ отъ судья ответь, и како огньная река потечетъ, пожагающи вся, и кто помагая будетъ развеи покаяниа и милостыня, и беспрестанныя молитвы, и кто всемъ любы, и прочая иная дела благая, яже обретаются помагающия души. Мы же сего ни на памяти имамы, но ово о семь, а другое о иномь станемъ, не имуще ни единого слова отвещати предъ Богомъ.
И еще раз тема Страшного суда и того, что ему сопутствует, возникает в заключительной части «Жития», в том длинном «антитетическом» фрагменте, где Ефрем описывает свое «недостоинство» на фоне нравственных высот покойного Авраамия: онъ же страшный судный день Божий поминая, азъ же трапезы велиа и пиры; онъ паметь смертную и разлучение души отъ телеса, испытание въздушныхъ мытаревъ, азъ же бубны и сопели, и плясание; он еже подражати житие святыхъ отецъ и подобитися благому житью ихъ, и почитая святая жития ихъ и словеса, азъ же быхъ подражая и любя пустотная и суетная злыхъ обычая.
Разумеется, тема Страшного Суда достаточно хорошо известна и по другим текстам древнерусской литературы, и в выборе ее Авраамий (и/или Ефрем) не был оригинален. Оригинальность и индивидуальность Авраамия состояла в том, какое значение он ей придал и насколько он усвоил ее себе в своем жизненном опыте как наиболее волновавшую его проблему, а также то, как эта тема была решена им.
О значении для Авраамия темы Страшного Суда и постоянном переживании его виде́ния уже говорилось [126]. В связи же с тем, как она была решена конкретно, т. е. какие образы стали ведущими для Авраамия, нужно привлечь внимание к двум местам — к трижды обозначаемой теме испытания въздушныхъ мытарьствъ и к дважды выступающему мотиву «огненной реки» (река огнена, огньная река, пожагающи вся). Похоже, что первое испытание, состоявшее в том, что по отделении грешных душ, уже уловленных диаволом, оставались еще души, чей статус был еще не вполне ясен и должен был определиться ангелами в зависимости от степени греховности этих душ; пока же они претерпевали воздушные мытарства и постольку пребывали в состоянии крайнего волнения, так как миновать этого испытания было невозможно. Этот образ «испытания воздушных мытарств», возможно, отчасти проясняемый соответствующими живописными, «рисуночными» изображениями [127], принадлежит к числу нечастых и, безусловно, специфичных. Тем ценнее, что первый по времени пример этого образа обнаруживается в несторовом «Житии» Феодосия, оказавшем, как уже отмечалось ранее, известное влияние и на текст «Жития» Авраамия Смоленского. Ср.: Милостивъ буди души моей, да не срящетъ ея противьныихъ лукавьство, но да приимутъ ю ангели твои проводяще ю сквозе пронырьство тьмныихъ техъ мытаръство (Усп. сб., 128) [128]. Следует, видимо, согласиться с тем, что зафиксированный на фронтисписе Псалтири инока Степана образ «испытания воздушных мытарств» в определенную эпоху (XIV в.) связывался с религиозными представлениями стригольников, которые сами складывались на основе синтеза ряда учений, религиозных идей и образов предыдущего времени и разного происхождения. То, что предшествующая стадия в развитии этого образа свидетельствуется трижды «Житием» Авраамия, а несколько ранее и менее ясно и «Житием» Феодосия Печерского, позволяет, кажется, говорить об определенной линии, следы которой обнаруживаются уже в самом начале древнерусской письменности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Книги похожие на "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)"
Отзывы читателей о книге "Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.)", комментарии и мнения людей о произведении.