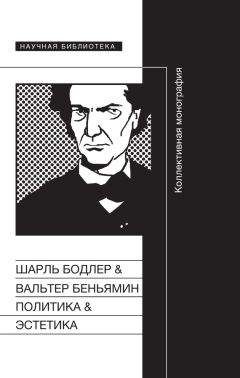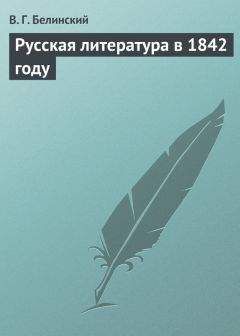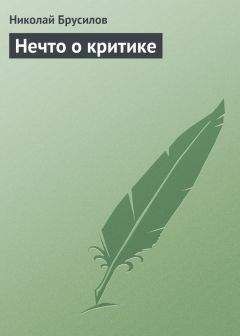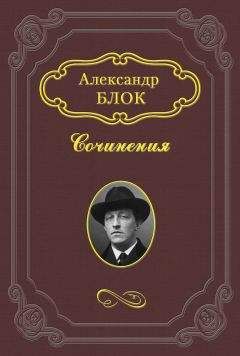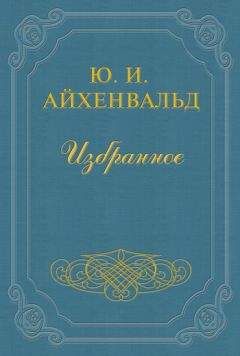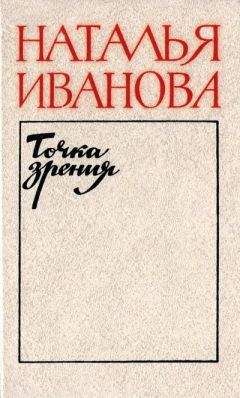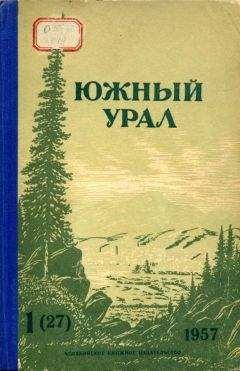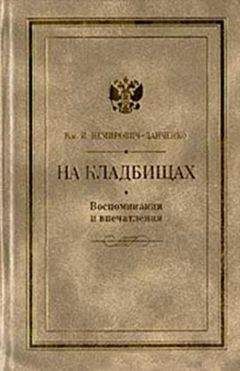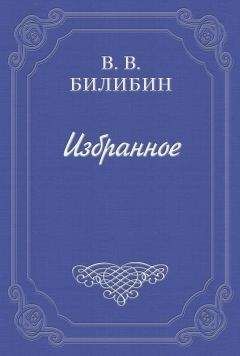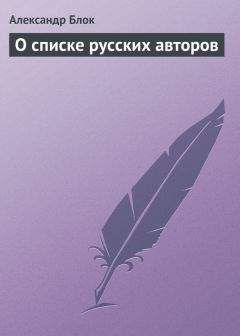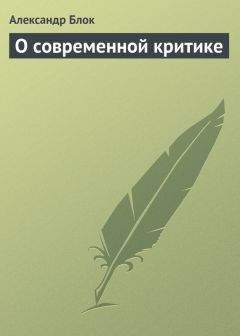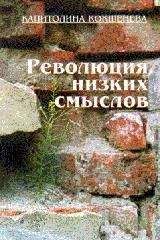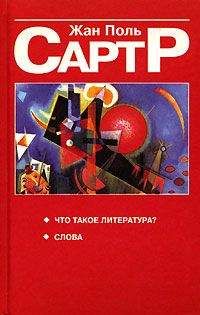Капитолина Кокшенева - Русская критика
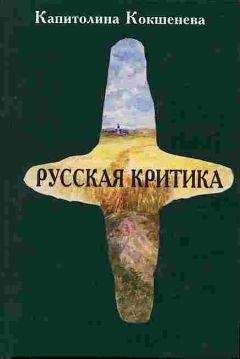
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Русская критика"
Описание и краткое содержание "Русская критика" читать бесплатно онлайн.
«Герои» книги известного арт-критика Капитолины Кокшеневой — это Вадим Кожинов, Валентин Распутин и Татьяна Доронина, Александр Проханов и Виктор Ерофеев, Владимир Маканин и Виктор Астафьев, Павел Крусанов, Татьяна Толстая и Владимир Сорокин, Александр Потемкин и Виктор Николаев, Петр Краснов, Олег Павлов и Вера Галактионова, а также многие другие писатели, критики и деятели культуры.
Своими союзниками и сомысленниками автор считает современного русского философа Н.П. Ильина, исследователя культуры Н.И. Калягина, выдающихся русских мыслителей и публицистов прежних времен — Н.Н. Страхова, Н.Г. Дебольского, П.Е. Астафьева, М.О. Меньшикова. Перед вами — актуальная книга, обращенная к мыслящим русским людям, для которых важно уяснить вопросы творческой свободы и ее пределов, тенденции современной культуры.
Быть может здесь, в незатейливом и «простом» Эске, герой впервые так близко видит жизнь «жесткого народа», который «пока еще не согласен вымирать»? Я бы сказала, что библейская тема «блудного сына» в повести не просто прочитывается, но ее смысл именно развертывается. Ведь герой был «блудным сыном» и по отношению к Москве — что он видел в ней, кроме «привилегированного места» рождения, да еще денег, связей, новостей и возможностей карьеры? Но в более обширном смысле он был «блудным» вообще в нечувствии и немыслии своего, родного. И не «красивой сказочкой», но неумолимой закономерностью звучит кода судьбы героя, развернувшейся в направлении веры и полноты: «… увидеть, проникнуть, понять, запечатлеть, владеть сродниться. Все это множество жизни, конечно, невозможно в себя вместить, но невозможно и отказаться от этого желания». И уже совсем не жалким и обделенным выглядит этот жесткий люд провинции, а напротив, пронзает тревогой мысль, что «если старики эти, путейцы, умрут, а на их место их внуки не придут, то что же будет?» Они — та самая «поддерживающая масса», которая как-то, почти чудесно, продвигала его (безденежного и беспаспортного) к цели — домой. Но, пожалуй, самым существенным в переменах с героем, была эта медленно нарастающая «откуда-то взявшаяся родственность» с простыми людьми. Он узнал, что толпа может стать народом, или (как в монастыре) богомольной Россией. И вот уже не глазком объектива, но во всю ширь зрения начинает видеть герой провинцию: «Доверчивые эти домишки, цветы, небо. Даром, в избытке распростертое над улочками и скверами».
В том, как пишут провинцию Смородины, есть какая-то удивительная живучесть, жизненная цепкость, умение держаться главной жизненной линии, что проложена не реформами и рынком, обозначена не памятниками свободам, а чем-то совершенно внутренним, с точки зрения именно рыночного времени «непродуктивным». И «непродуктивным», «незаконным» оказывается прежде всего опыт души человеческой и опыт совести. Тоска-кручина, душевная мука, печаль, которые всегда с нашей русской точки зрения и предъявляли миру эту самую человеческую живую душу, теперь почему-то объявлены «непродуктивными»! Смородины уловили тут нечто очень значимое и существенное — «непродуктивно» видеть мир таким как он есть! Непродуктивно страдать, слишком быть к чему-либо привязанным, видеть ложь всех этих церемоний со свободами, слышать совершенно безразличного к Эску Брикмана и ему подобных. Вот уж они — мастера продуктивного поведения, расчетливо не тратящие себя на всякую там провинцию!
Константин и Анна во всем своем творчестве выступают защитниками внутренней, «переживательной» жизни человека — защитниками чувства «ровного счастья, возникшего ниоткуда, просто потому, что мы живы» («Мультфильм для взрослых»); заступниками тети Маруси, которая вдруг так резко восстала против собственного «приниженного, растертого подлым существованием» образа («Панталончики с коронами»); в их прозе частым гостем является творческий человек. И, что характерно, там, где сегодня нигилистический взгляд уловил бы только грех да грязь, они способны увидеть чистоту. В «Заснеженной Палестине» мир театра дан не привычно — образом главной героини Милы вообще отстаивается мысль о человеческой нравственной полноте в любом, даже заведомо располагающем к греху и игре, мире. В любом, даже самом крохотном рассказе, Смородины всегда одарят читателя чувством пронзительной правильности. Какая-то славная светлость и чистота всегда становятся «итогом» и кодой повествования, несмотря на драматизм его. Но удивительно, что сама эта «правильность» является итогом такого сложного, такого перепутанного мира, где «изобилуют киоски с пивом», где «собою побеждены пребываем» (своими страстями), где иные «во всех ночных забегаловках потерлись и все секты обошли».
И все же «правильность» возможна — возможна потому, что все в их творчестве наполнено любовью к сущему в мире, что они очень остро и очень тонко чувствуют полноту жизни, в которой по-прежнему очень много того, что можно любить и ценить: природу и детей, старика и женщину, творчество и дружбу. Все их творчество проходит в поисках радости, которую они умеют найти всегда, оттолкнувшись от собственной нежно-глубокой благодарности тончайшим токам проникновения «светлой легкости» в нашу такую трудную, но потому и настоящую жизнь.
«Поиски радости» Константина и Анны, их «святой восторг» тесно и крепко связаны с отеческой верой. Православной. Христианской. В современном искусстве сейчас всюду встретишь «религиозные мотивы», «мистицизм веры», библейский символизм. Но часто все названное для писателей, художников — это попросту чужой опыт. У Смородинных все иначе. Они весь опыт святоотеческой веры полагают своим, хранят ему верность, постигают его, но не переоценивают (результат любой «переоценки» — прямое удешевление, уценка). Сами названия их рассказов и повестей уже отправляют нас к чистым водам Первоисточника: «Праздник “посвящения”», «Зриши мою скорбь», «Алтарник Валера», «Заснеженная Палестина» «Тринадцатый ученик», «Келейная жизнь». Святая Русь и Россия у них стоят близко. Очень близко друг к другу. Но «разглядеть» одну в другой можно и должно, конечно же, через человека. Потому и образы священников, и образы мирян в их прозе изображены такими теплыми, такими живыми и яркими красками. Отец Василий, сподобившийся посещения Святой земли Палестины пребывает в победительном состоянии, вдохновленной Евангельской простотой увиденного. И его вольное, свободное дыхание передается и нам, читателям, — и в нашем сердце зажигается радость хождения след в след за отцом Василием, когда он ступает по Святой земле «как бы след в след за Спасителем, развеваясь знаменем на ветру истины».
Как разнообразно пишется нашими авторами радость — то это «светлая суровая радость», то напоенная духом, то «частный дар» любви к конкретному человеку. А то — необыкновенная и непостижимая как «райский мир», столь пастельно-тонко вырисованный в повести «Радостная слободка». Ее герой, писатель, попадает в «окраинный мир» в тот момент своей жизни, когда душа из него словно «вынута», а собственное творчество представляется сплошь соблазном, лишающим всякой спасительности самого автора. Именно новое чувство — радости, возникшее «вдруг», оживившее весь телесный и душевный состав героя, стало тем предвестием перемен, что унесли его в Радостную Слободку. Сначала он видит «мальчишку», восседавшего «на облаке, среди пуховых белых клочьев». И, кажется, только потому, что узнал он в этом мальчишке «саму идею детства, воплощенную живо и безыскусно, но в полноте, в могуществе нежности и первозданной, едва народившейся любви», — именно потому ему позволено было «увидеть» и другое. Проникнуть в «окраинный мир», где, конечно же, писатель без труда узнал знаменитых гоголевских старосветских помещиков — Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. Они-то и нужны были его удивленной переменами душе — в своей светлой простоте и простейшей ласковости. Путешествие в «райский мир» дано Константином и Анной как только и доступная художникам песнь. Песнь о мире радости. Конечно же, без светописи тут не обойтись: не случайно именно с сиянья «окрест» можно было узнать о приближении героя к заповеданному миру. Вообще расцвечивание светом им удалось передать точнейшим образом. Тут и сияние воздуха «каждой своей воздушной песчинкой», и золотая пыль, и милосердность, отрадность самого этого цвета-сияния, и сверкающие «остро и резко» облака, и «радужные всполохи» из белой «облачной колыбели». Какая роскошная картина — апофеоз живой красоты, благодатной радости. А потом будут сад — «райский», где «проступал самый сокровенный смысл изобилия»; будет дом и утешительные разговоры со старичками, и струение сокровенного, сладостно-нежного напева, в котором в полнейшем ладу жили друг в друге мелодия и слова, и который вмещал «всю надежду, сколько ее ни хранилось в человечестве». И вскипит душа героя слезами, и полыхнет чувством любви ко всем незнакомым людям. И не удивится герой занятию Пульхерии Ивановны — свиванию шелковых, золотой нити, шнуров. И шнуры эти — для украшения славы. Ведь сколько ее — славы-то стоит в Воинской слободе, где помещены сплошь богатыри, «за Христа и Отечество доблестную смерть принявшие». «Картина грандиозной славы живо нарисовалась» в воображении героя как «бесконечный воинский парад». Но и это восхождение славы было не окончательно-завершающим. Всем существом ощутил герой, что «зачинается грандиозное служение, которое доселе лишь приуготовлялось, и прежде бывшая радость была лишь его трепещущим ореолом». Если и можно передать художнически это стояние человека в высшем бытии — это помещение человека внутрь Божественной Литургии — то Смородинным это удалось. Наверное, потому и удалось, что позволили себе только допустимое, не оторванное от реальности человеческой души, мистическое переживание «райского мира» (что подразумевает принципиально иные задачи, чем те, что есть у фантастов, например). Возвращение героя в себя-земного пронзает именно достоверностью полученного знания — «радость равна ответственности!» И не вместить, не удержать, и не снести ее без молитвенной помощи наших «добрых старичков».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русская критика"
Книги похожие на "Русская критика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Капитолина Кокшенева - Русская критика"
Отзывы читателей о книге "Русская критика", комментарии и мнения людей о произведении.