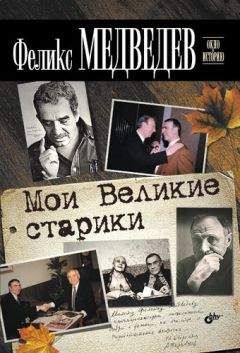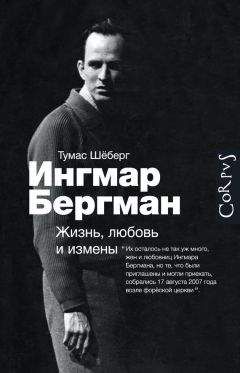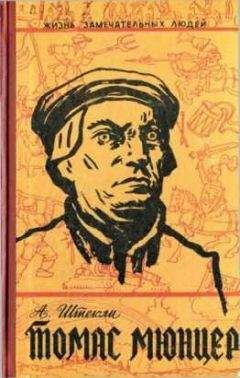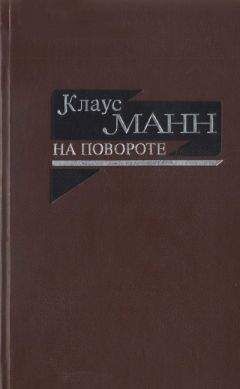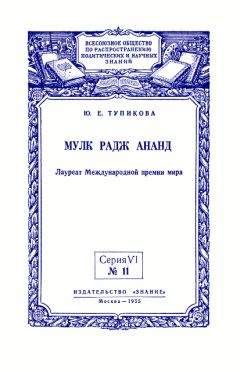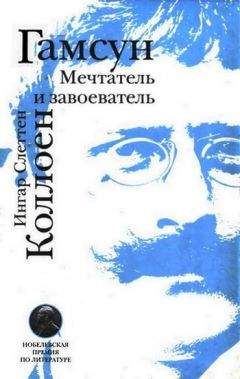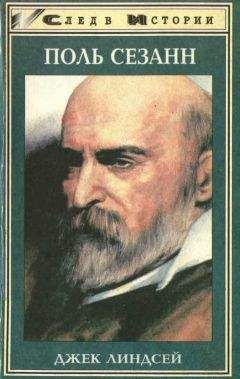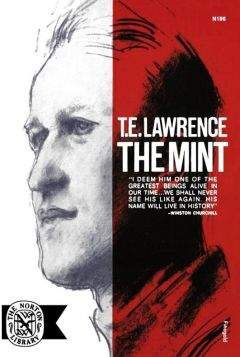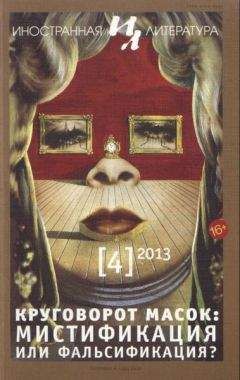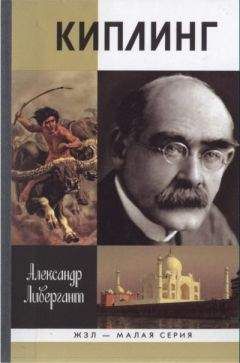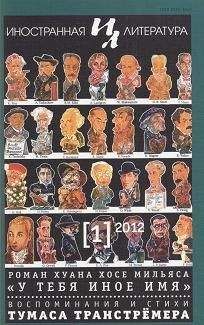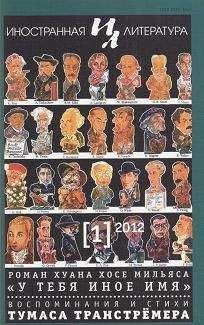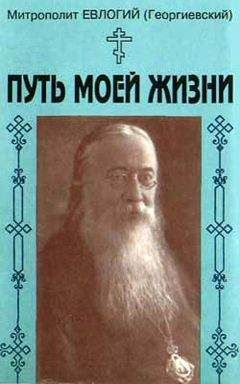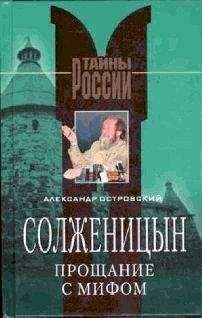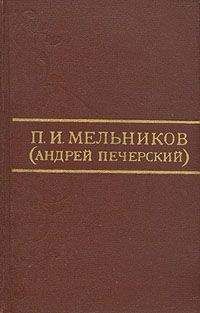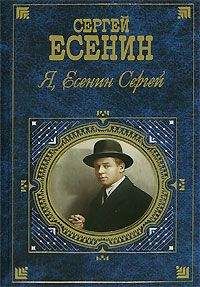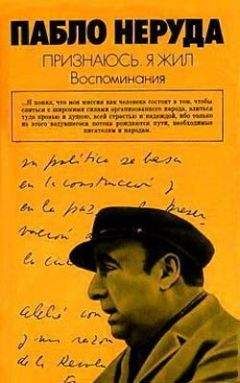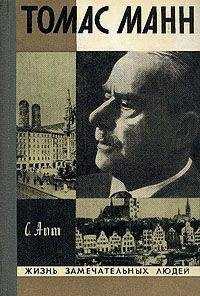Томас Манн - Путь на Волшебную гору
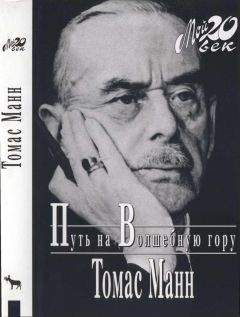
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Путь на Волшебную гору"
Описание и краткое содержание "Путь на Волшебную гору" читать бесплатно онлайн.
Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1875–1955) — автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», тетралогии «Иосиф и его братья». В том мемуарной и публицистической прозы Томаса Манна включены его воспоминания — «Детские игры», «Очерк моей жизни», отрывки из книги «Рассуждения аполитичного», статьи, посвященные творчеству великих немецких и русских писателей. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление об эволюции творчества и мировоззрения этого ярчайшего представителя немецкой культуры двадцатого столетия.
В один из вечеров, когда я читал вслух, Леонгард Франк спросил меня, был ли у меня какой‑нибудь прототип для самого Адриана. Я ответил отрицательно и прибавил, что в том‑то и состояла трудность, чтобы выдумать фигуру музыканта, способную занять правдоподобное место среди реальных деятелей современного музыкального мира. Леверкюн — это, так сказать, собирательный образ, «герой нашего времени», человек, несущий в себе всю боль эпохи. Но я пошел дальше и признался Франку, что ни одного своего вымышленного героя, ни Томаса Будденброка, ни Ганса Касторпа, ни Ашенбаха, ни Иосифа, ни Гёте из «Лотты в Веймаре» — исключая разве что Ганно Будденброка — я не любил так, как любил Адриана. Я говорил сущую правду. Я буквально разделял те чувства, которые питал к нему добрый Серенус, я был тревожно влюблен в него, начиная с поры его надменного ученичества, я был до одури покорен его «холодом», его далекостью от жизни, отсутствием у него «души», этой посреднической инстанции, примиряющей ум и инстинкт, его «бесчеловечностью», его «искушенным сердцем», его убежденностью в том, что он проклят. Любопытно, что при этом он почти лишен у меня внешнего вида, зримости, телесности. Моим близким всегда хотелось, ятобы я его описал, чтобы я, если уж от рассказчика остаются только доброе сердце да дрожащая рука, дал увидеть по крайней мере героя рассказа, моего героя, наделил его психологической индивидуальностью, наглядно его показал. Как это было легко! И как в то же время таинственно — непозволительно, невозможно в каком‑то еще не изведанном дотоле отношении! Невозможно по — иному, чем, скажем, автопортрет Цейтблома. Тут нельзя было нарушать некий запрет или, вернее, тут надлежало соблюдать величайшую сдержанность во внешней конкретизации, которая грозила сразу же принизить и опошлить духовный план с его символичностью и многозначительностью. Да, только так персонажами романа, коль скоро это определение предполагает известную картинность, красочность, могли быть лишь сравнительно далекие от центра действующие лица книги, все эти Шильдкнапы, Швердтфегеры, Родде, Шлагингауфены и т. д. и т. д. — но отнюдь не ее протагонисты, один и другой, обязанные скрыть слишком большую тайну — тайну их тождества…
Те летние недели, когда я писал главы, предшествующие переселению Адриана в Мюнхен, принесли нам одну очень важную для меня встречу: к нам приехал Эрнст Крженек с женой, и мне представился случай поблагодарить его за «Music Неге and Now» а также — пока мы гуляли вдвоем под могучими египетскими пальмами Ошен — авеню и затем беседовали у нас дома — узнать от него много поучительного о судьбах музыки за последние сорок лет и ее теперешнем положении, об отношении к ее новым формам как со стороны публики, так и со стороны солистов и дирижеров различных типов. Эти личные впечатления дополнялись такими книгами, как «Music, a Science and Art»[182] Редфилда, «The Musical Scene»[183] Вирджила Томсона, «The Book of Modern Composers»[184] Ивена и особенно — «The Unconscious Beethoven»[185] Эрнеста Ньюмена. Очень внимательно читал я одну книгу, которая непосредственно к предмету не относилась, но благодаря умным рассуждениям автора помогла мне уяснить и ситуацию моего романа, и мою собственную позицию в его истории: речь идет о «James Joyce»[186] Гарри Левина. Так как прямое обращение к словесности этого ирландца мне недоступно, при знакомстве с данным явлением приходится довольствоваться критическим посредничеством, и такие труды, как упомянутая книга Левина и большой комментарий Кэмпбелла к «Finnigan’s Wake»[187], открыли мне кое — какие неожиданные связи и — при всей несхожести литературных дарований — даже известное родство Я заранее считал, что в сравнении с эксцентричным новаторством Джойса мой труд покажется бледным, традиционным. Спору нет, традиционное построение, хотя бы оно уже и носило несколько пародийный характер, способствует большей доходчивости, служит залогом известной популярности. Но это скорее вопрос манеры, а не суть дела: «As his subject‑matter reveals the decomposition of the middle class, — пишет Левин, — Joyce’s technique passes beyond the limits of realistic fiction. Neither the “Portrait of the artist”, nor “Finnigan’s Wake” is a novel, strictly speaking, and “Ulysses” is a novel to end all novels»[188]. Это можно с таким же правом сказать о «Волшебной горе», об «Иосифе» и «Докторе Фаустусе», и вопрос Т. С. Элл йота: «Whether the novel had not outlived its function since Flaubert and James, and whether “Ulysses” should be considered an epic?»[189] в точности совпадает с моим собственным вопросом — не случилось ли так, что в области романа теперь примечательны только те произведения, которые по сути уже не являются романами? В книге Левина есть фразы, глубоко меня взволновавшие: «The best writing of our contemporaries is not an act of creation, but an act of evocation, peculiarly saturated with reminiscenses»[190]. Или вот эта: «Не has enormously increased the difficulties of being a novelist…»[191]
«Бьюсь над новой главой. Нужно оттянуть задуманный поворот, здесь это получилось бы слишком тяжело и грубо. Идея дать черта в трех масках, неизменно окутанного ледяным холодом… Последнее место переписал. “Meilleur”[192]. Еще раз взялся за XXI, Заметки для диалога с чертом. Писал XXII (двенадцатитоновая техника). С удовольствием ощутил включение изученного и усвоенного в атмосферу и связи книги…» Дело двигалось, верил ли я в него или не верил. В конце августа (Париж был взят, немецкий гарнизон изгнан, Лаваль бежал, Петена увезли немцы) я пришел к заключению, что роман «наполовину написан», и согласился сделать перерыв — в частности, наверно, и потому, что на осень, согласно договору с агентством Колстон Леф, было назначено лекционное турне, требовавшее определенной литературной подготовки. Кстати сказать, путем переписки я несколько сократил эту поездку, боясь чрезмерно расходовать силы на дальние странствия. Занимаясь на первых порах мелкими, промежуточными работами, предисловием к стокгольмскому изданию «Сервантеса» Бруно Франка, статьей о Гриммельсгаузене для другого шведского издательства, я слушал куски из нового рассказа Леонгарда Франка, из его «Немецкой новеллы», которые он читал нам в часы своих вечерних визитов. Он, сколь ни странно подобное положение, не мог закончить свой роман «Матильда», не дождавшись развязки событий, конца войны, и весьма достойно заполнял вынужденный досуг отделкой этого меньшего по объему произведения. Несомненно, оно испытало какое‑то влияние «Фаустуса», его настроения, его идей, впрочем принадлежавших Франку в такой же мере, как и мне самому. Меня пугало заглавие. Слово «немецкий», разумеется, обыгрывалось. Но если я перенес его в пояснительный подзаголовок, как сухое, уточняющее определение к «композитору», Франк козырял им в основном заглавии, более того — превращал его в заголовок. Он отверг высказанные мною соображения о вкусе и такте, хотя охотно принимал частные советы и замечания. Его тихое, слегка запинающееся чтение я слушал с искренним уважением. Поэтически чрезвычайно удавшийся быт старинного немецкого городка (Ротенбурга — на — Таубере); подробности, относящиеся к ремеслам, в которых бывший механик и слесарьподмастерье знал толк и которым опять‑таки сумел придать специфически «немецкий» колорит; болезненно — психологическая подоплека, а именно разрыв между полом и любовью, и таинственный демонизм рассказа — все это необычайно меня привлекало, и я остался поклонником этого до сих пор еще недооцененного маленького шедевра.
Снова и снова музыка — жизнь и общество дарили ее мне непрестанно, с какой‑то загадочной услужливостью, гораздо чаще, чем нынче, когда роман написан и музыка опять отошла на периферию моих интересов. У доктора Альберсгейма, с которым мы познакомились через Нейманов, музыканта и музыковеда, кстати сказать, консервативной ориентации, весьма далекого от более отвечавших моей задаче взглядов Адорно, устраивались восхитительные вечера, где с разнообразной программой выступали «stars in the making»[193], начинающие инструменталисты и певцы. Темянка жил довольно далеко, за «Bowl’eM», у Даунтауна; меня не пугали никакие расстояния, даже если время года сулило туман на обратном пути. Исполнялись скрипичная соната Генделя с великолепным ларгетто; сюита Баха в восьми частях: квартет с гобоем, партию которого вела скрипка одного присутствовавшего на вечере венгерского композитора. Мы ужинали с Чарльзом Лафтоном, жутковато — затейливым и глубоким актером, чудесно прочитавшим затем с европейским английским выговором отрывок из «Tempest»[194]. Ни Париж, ни Мюнхен 1900 года не могли бы похвастаться вечером, где царила бы более приятная атмосфера искусства, вдохновения и непринужденности.
Адорно дал мне тогда прочитать свою очень умную статью о Вагнере, которую половинчатость критики и так и не доходящая до полного отрицания строптивость роднят с моим собственным опытом — «Страдания и величие Рихарда Вагнера». Наверно, эта статья и заставила меня в тот вечер снова прослушать записи «Сна Эльзы» с магическим пианиссимо трубы, вступающей при словах «В сиянье лат сребристых — мне рыцарь вдруг предстал», и заключительную сцену из «Золота Рейна» со всеми ее красотами и прелестями: первым появлением идеи меча, дивным развитием мотива «Валгаллы», гениально яркими репликами Логе, этой фразой «Если не светит золото вам» и прежде всего с неописуемым, сентиментально — томительным «Только в глубинах правда таится» из терцета дочерей Рейна. «Мир трезвучий “Кольца”, — признался я в дневнике, — по сути моя музыкальная родина». Впрочем, ниже прибавлено: «И всетаки я никогда вдоволь не наслушаюсь тристановского аккорда в фортепьянном изложении».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Путь на Волшебную гору"
Книги похожие на "Путь на Волшебную гору" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Томас Манн - Путь на Волшебную гору"
Отзывы читателей о книге "Путь на Волшебную гору", комментарии и мнения людей о произведении.