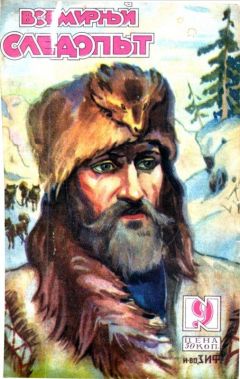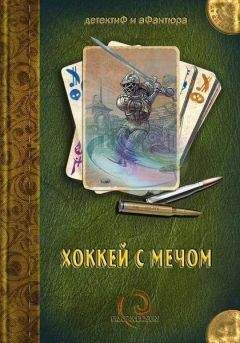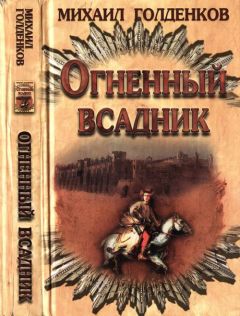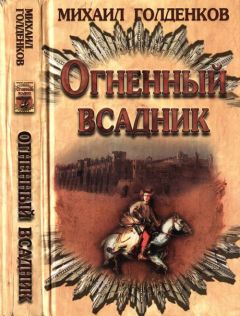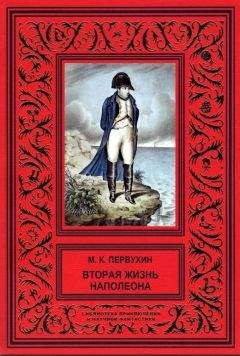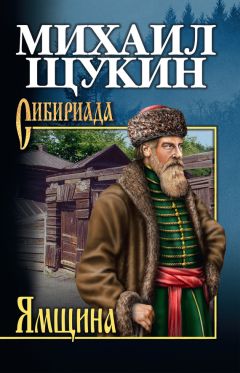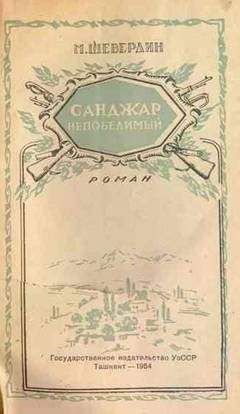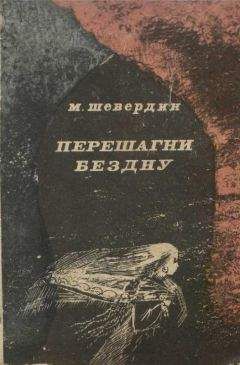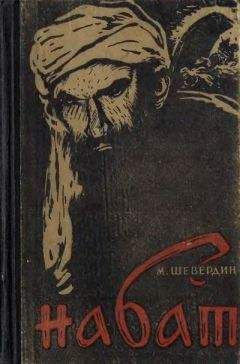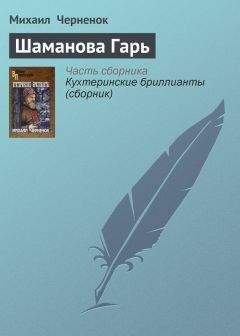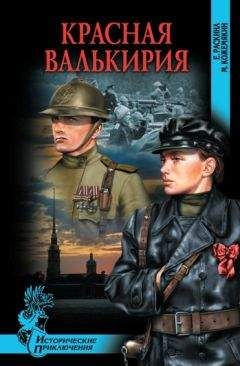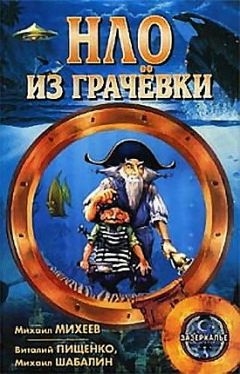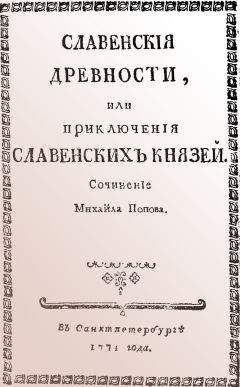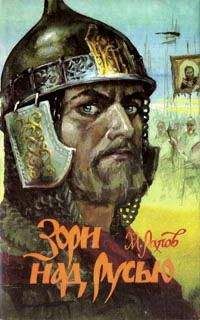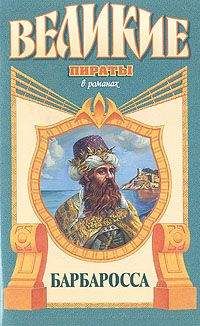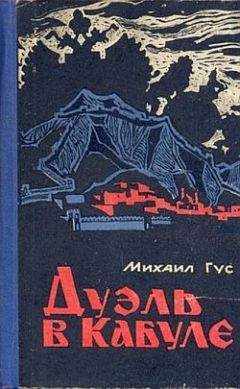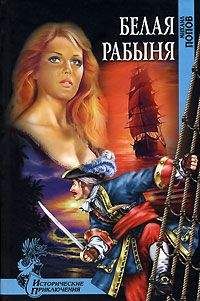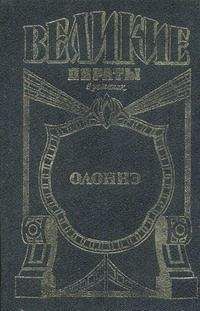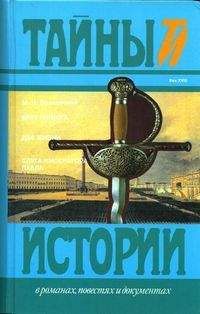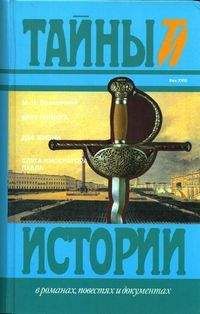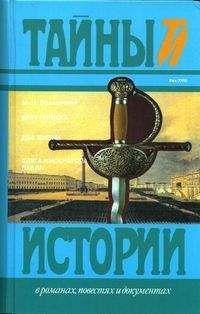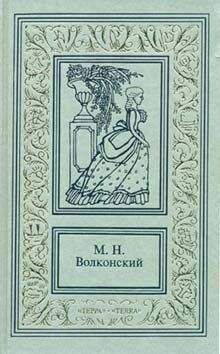Михаил Арнаудов - Психология литературного творчества
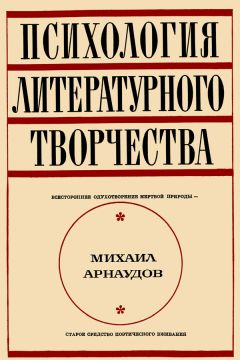
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Психология литературного творчества"
Описание и краткое содержание "Психология литературного творчества" читать бесплатно онлайн.
Этот пример современного мифа ничего общего не имеет с теми искусственными метафорами и олицетворениями, в основе которых языковой эксперимент или подражание древней мифологии. Для настоящего поэта характерен взгляд на природу сквозь призму своего воображения и одухотворение одновременно с восприятием, тогда как тот, кто опирается на заложенное в языке или на поэтические мифы предшествующих эпох, ничего не видит или видит так, как это присуще всем прозаическим умам[538]. Один исходит из своих впечатлений и создаёт новые образы, другой использует готовые образы и повторяет чужие видения, не чувствуя их непосредственно. Против писателей, беззастенчиво эксплуатирующих мифологию, восставал ещё Гёльдерлин:
Вы, холодные лицемеры, не говорите от имени богов.
У вас есть разум, но вы не верите в Гелиоса,
Ни в Громовержца, ни в Посейдона[539].
Что касается возвращения новой поэзии к мифологическому мировоззрению давно ушедших времён, когда для художника как бы не имеет значения прогресс положительного знания, можно утверждать, что не это знание делает поэзию, а чистая интуиция, исходящая из впечатлений и чувств. В этом отношении человек проявляет большое постоянство, имеет известные исконные качества духа, и, какие бы перемены ни происходили в области духовной культуры, в своём поэтическом созерцании он останется тем же, если сохранит искренность и не поддастся сознательно влиянию теории. Кто смотрит на природу через призму воображения, обладая возвышенной душой, тот легко забывает книжную и рассудочную мудрость, тому доступен язык пророков. Поэтому нет ничего странного, если романтик начала XIX в. приходит спонтанно к тем же образам природы, какие встречаются в староиндийской мифологии. Около половины «Гармоний» Ламартина являются, по замечанию критика Леметра, как бы ведийскими гимнами[540], хотя поэт не был знаком с индийской религиозной или эпической литературой. Очевидно, между видениями религиозного мечтателя добуддийских времён и поэзией мечтателя послереволюционного времени во Франции есть чисто внутреннее родство. Так и Пенчо Славейков даёт поэтическое выражение своим идеям о начале и конце Вселенной в гимне, хотя и прямо подсказанном подобным же гимном индийской Ригведы, но говорящем о самостоятельности его видения[541]. Круг образов мира и поэтических философем часто одинаков и для поэта, воспитанного на традициях Гёте и Ницше, и для древнего пророка, который только раскрывает книгу бытия.
На переходной ступени между безобидным одухотворением, которое останавливается на чисто объективном и удовлетворяется простыми метафорами или наивными олицетворениями, и мифическим, более субъективным, более осмысленным пониманием природы, возникают поэтические картины, подобные той, что дана в стихотворении «Град» Яворова:
Уйди обратно, туча злая,
повремени! Одна, другая
неделя бы прошла — тогда
круши, злодейка, — не беда!
А туча лезет грозовая,
собою небо закрывая,
зловещая — пощады нет!
Беда всё ближе!.. Меркнет свет…[542]
Или картина пробуждения весны у Ракитина:
Земля под снегом во сне качалась,
Наяву слышит жизни крик:
На пороге стук, весна остановилась
И обещает праздник великий.
И молодец — Солнце животворное
Всюду мечет стрелы огненные,
И в пути кланяются ему покорно
Знамёна тумана полыхающие[543].
Здесь переход от образа к саге останавливается на полпути, как и в картине:
Как сильно бьёт кровь земли!
Всю долину дрожь пронизывает…
По межам хлопочет весна ведренная
С полной цветами корзиной[544].
И подобно Яворову в стихотворении «Молитесь неустанно», Ракитин видит, как воскресным утром, когда раскрывается «храм из цветущих садов» и «лампады из красных георгин пылают», «кто-то рукой невидимой, смелой завесу рвёт над сонным простором» и
… Из царских дверей
Показывается в мантии Солнце-жрец[545].
От таких образов, где одинаково сильно веяние физического и духовного, где рисунок внешнего мира не замутнён проецированным на него субъективным человеческим, не трудно дойти до настоящих мифических картин, освободив восприятие от всего чисто живописного и непосредственно бытового. Так, например, у Ленау:
Языки пламени извиваются как змеи,
Жадно поглощая свою добычу[546].
Примитивный ум намного раньше на основе того же образа создаёт миф, описанный Геродотом: «Египтяне верят, что огонь был живым существом и поглощал всё, чего достигал, но, насытившись пищей, он умирал от того, что поглотил». Обогатив эту образную основу восприятия мира представлениями из области человеческих отношений и связав её с идеями о демоническом или божественном начале, мы приблизимся к источнику мифического осмысления мира, которое в дальнейшем, полностью оторвавшись от природы и её олицетворения, развивается в направлении к свободному сказочно-легендарному построению сюжета.
4. РОМАНТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРИРОДЫ
Высшая точка в эволюции одухотворения — так называемое романтическое восприятие природы, особенно ярко проявляющееся с XVIII в. Уже читая Шекспира, мы удивлялись широте его кругозора, тонкости его ощущения природы, смелости и оригинальности его сравнений, умению связать действие и судьбу героев с окружающей природой (блаженный, любовный сон Ромео и Джульетты и блестящие лунные ночи, мрачное небо и опечаленный Гамлет и т.д.). Руссо, который, руководствуясь новой поэтикой, не считает себя обязанным скрывать своё «я», было суждено обогатить это восприятие природы. Он подчёркивает очарование всего величественного и дивного в природе (альпийские горы и озёра в «Новой Элоизе»), открывает поэзию уединения и «сладкую меланхолию» путешествий («Прогулки одинокого мечтателя»), направляет несчастные души к мистическому успокоению на лоне природы («Исповедь»), близкому к религиозному экстазу[547]. Гёте, идя по его стопам, находит синтез этих романтических элементов, соединяя философско-поэтический пантеизм с самым утончённым чувством природы, одинаково углубляя и своё преклонение, и вживание, давая нам в своей лирике и в «Вертере» выражение непосредственного мироощущения, где внутренние настроения, восторг или тревога, находят полный отзвук в окружающей природе. И это восторженное благоговение, эти поиски утешения или наслаждения от общения с природой передаются всем поколениям поэтов. Постепенно совершался переворот в восприятии природы человеком. Наступила эра универсального слияния с природой, сотканного из гомеровской наивности, шекспировской симпатии, мечтательности Руссо, оссиановской меланхолии[548].
Окружающий мир не потерял своей таинственности, наоборот, он стал в известном смысле ещё более загадочным, чем раньше, когда с помощью простых мифов всё приобретало свой ясный смысл. Но взамен этого отказа всё объяснить пришло гораздо более интимное, более задушевное отношение к природе. Когда исчез всякий страх перед явлениями природы, она стала источником бесконечных созерцаний и самой чистой эстетической радости, притягательность её возросла особенно высоко с утратой веры в человеческий разум и углублением разочарования в жизни. В противовес преходящему, неприемлемому и лживому в истории вечно девственная и пленительная природа была матерью всякой жизни, готовой заключить в свои объятия заблудившегося или уставшего сына. Байрон устами Чайльд-Гарольда говорит, что горы кажутся ему друзьями, а океан — домом, что лес, пустыня, пещеры и бурные волны — лучшее общество и что он готов променять поэтов своей родины на поэмы природы, книги книг, написанной солнечным светом на морской глади, так как она выражает самые сокровенные его чувства[549]. Ламартин, чьё разочарование и отчаяние имеет другие источники, также ищет утешения в природе, где всё дышит гармонией и вечностью, где всё зовёт нас и любит:
Природа всегда здесь: она любит тебя и зовёт.
Приникни к ней, она ждёт тебя.
Всё изменяется вокруг нас, одна природа неизменна,
И то же солнце поднимается над нами каждый день[550].
Но здесь учитель Ламартина — Руссо, чувствительный и несчастный Руссо, который в бесконечных прогулках по лесам и на лодке по озеру предаётся экстатическим созерцаниям, «отождествляясь со всей природой», ища «в объятиях матери-природы» защиты от преследований и ненависти её детей: «О природа! О мать моя! Вот я всецело под твоей защитой: здесь нет изворотливого и коварного человека, который встал бы между тобой и мной»[551]. Вслед за ним и Байрон, революционно и меланхолически настроенный, пишет: «Ты, мать Природа, всех других добрей»; «Дай мне прильнуть к нагой груди твоей»; природа всегда нежная, вопреки своей изменчивости, одна близка ему, одинокому в мире[552]. Но великолепие природы, как бы она ни восхищала автора «Чайльд-Гарольда», не может ни на миг заставить его забыть личные бедствия и душевные страдания[553].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Психология литературного творчества"
Книги похожие на "Психология литературного творчества" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Арнаудов - Психология литературного творчества"
Отзывы читателей о книге "Психология литературного творчества", комментарии и мнения людей о произведении.