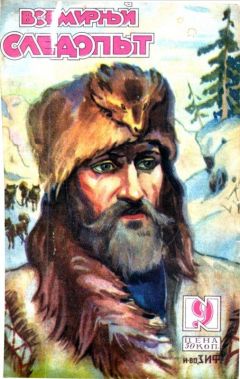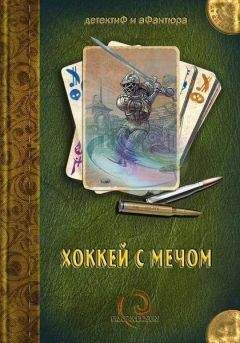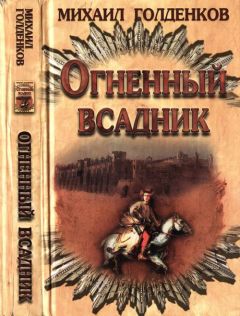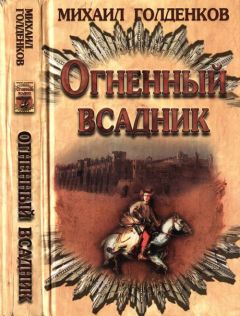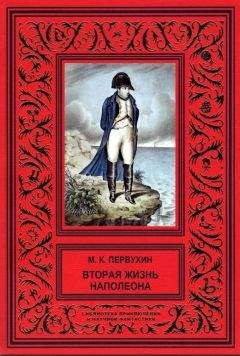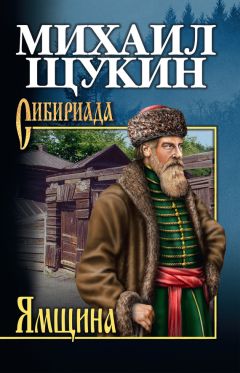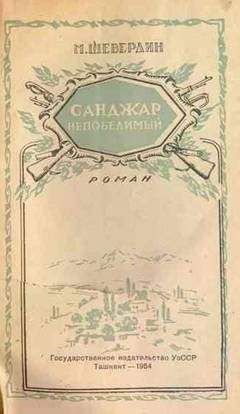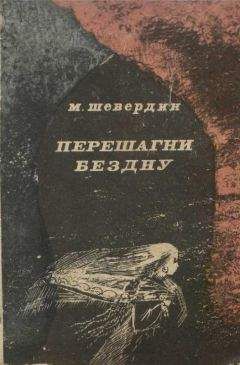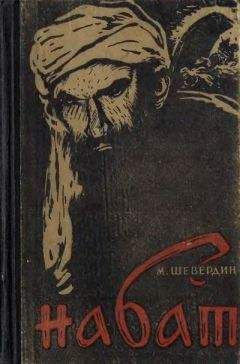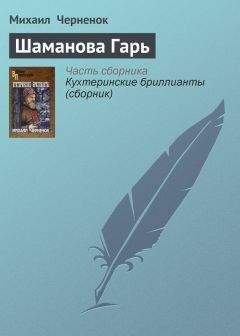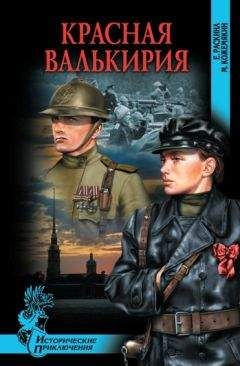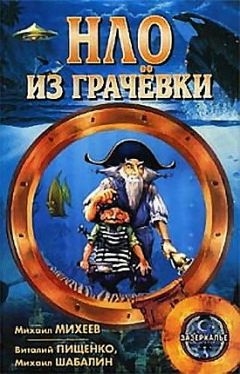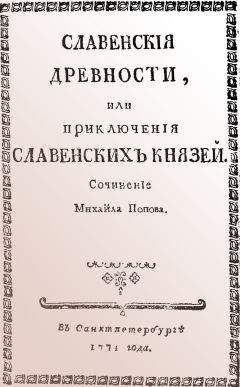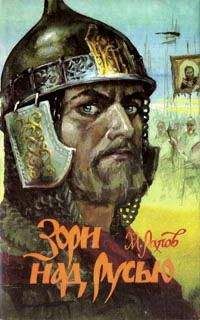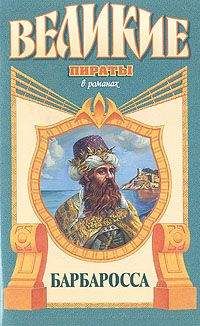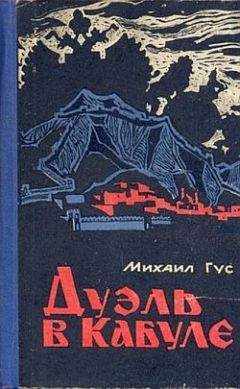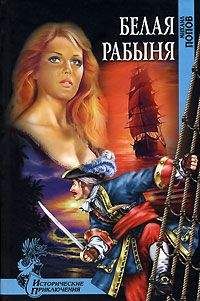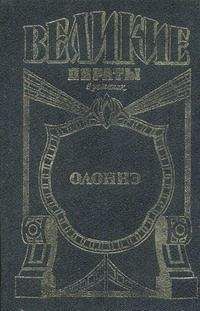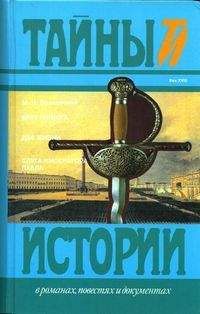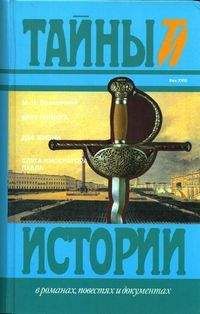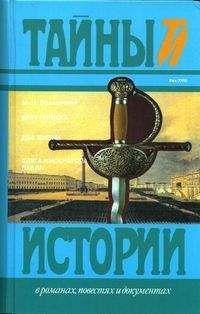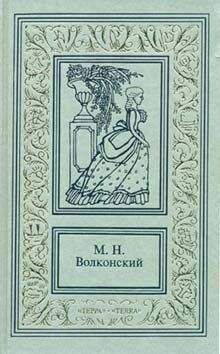Михаил Арнаудов - Психология литературного творчества
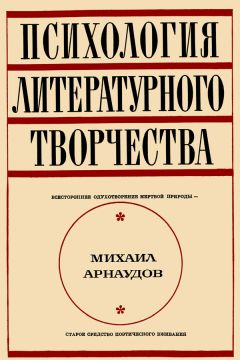
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Психология литературного творчества"
Описание и краткое содержание "Психология литературного творчества" читать бесплатно онлайн.
Отто Людвиг также свидетельствует: «Я вижу образы, один или более, в определённой ситуации, с характерной мимикой и жестами… Вслед за первоначальной ситуацией выступают новые образы и группы их, пока вся драма не будет готовой во всех своих сценах»[575]. Людвиг видит лица так живо, что ему кажется, будто они сидят рядом с ним. То же самое испытывает и Герхарт Гауптман: «Флориан Гейер стал для меня настолько всецело живым, что я не только представлял его себе как человека, которого вспоминают от случая к случаю, не только слышал своеобразие его речи, но понимал его чувства и желания»[576]. Аналогично относится к своим героям Гончаров: «… Лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров — и мне часто казалось, прости господи, что я это не выдумываю, а что это всё носится в воздухе около меня и мне только надо смотреть и вдумываться»[577]. Так и Яворов признаётся, что наблюдает своих героев словно в какой-то пантомиме, что следит за их движениями, слышит их голоса и во всех отношениях представляет их себе совершенно отчётливо[578]. Есть драматические писатели, говорит Геббель, которые проявляют известную неспособность полностью обрисовать все лица в пьесе; они останавливаются на одной-единственной фигуре и только ей придают жизнь. Это не метод подлинных творцов. «Или всюду жилы и мускулы, или всюду наброски углём»[579].
Если возникает образ со всеми его характерными чертами, то постепенно перед внимательным взором раскрывается и чисто внутреннее. Но художник не присутствует при этом как спокойный наблюдатель. Если публика в театре, пришедшая посмотреть законченную вещь, не может без волнения смотреть на сцену, то тем более это относится к автору, у которого сцена находится в голове и который сам создаёт образы действующих лиц. Он должен изобразить характер, должен привести его в движение, а для этого необходимы не только умение представить себе ситуацию, но и сердечная теплота, вживание в роль. Как бы мог автор отгадать особенную ноту голоса, особенный жест, способ чувствовать, мыслить и действовать в каждом отдельном случае, если бы он не поставил себя на место героя? Типичные черты характера, заранее известные, могут предопределить некоторые самые общие решения; но одного «да» или «нет» недостаточно, надо мотивировать неизбежность следования того или иного действия из совсем особого состояния в данный момент. Это «совсем особое» удаётся изобразить только при полном вживании в образ героя. Даже не имея никакого внутреннего родства c изображаемым лицом, при полном отсутствии автобиографичности, поэт всё же в состоянии найти для своих бесчисленных героев достаточно опорных точек в своей душевной природе. На помощь ему приходит та концентрация внутреннего внимания, о которой мы уже говорили. Полный мыслями об изображаемом лице, приняв во внимание всё, что представляется существенным в нём, на основе личного опыта или каких-либо документов, он живо откликается на возникшее таким образом впечатление и подчёркивает в силу художественной симпатии как раз те личные внутренние возможности, которые столь необходимы для правильного рисунка образа. У каждого из нас имеются в латентном состоянии аффективные и волевые побуждения, которые не являются настоящим нашим характером и остаются нереализованными, подавленными противоположными направлениями духа. Но они могут быть выдвинуты на первый план для наблюдения за их воображаемой игрой. Высказывания Бальзака или Гоголя вводят нас в природу «продолженного наблюдения» как вида психического эксперимента. Здесь необходимы как минимум внешние данные, чтобы оживить и повысить личное предрасположение до степени чего-то объективно оправданного[580]. И естественно, не следует придерживаться ошибочной мысли, что при отсутствии достаточного повода в наблюдении над другими здесь раскрывается только пережитое непосредственно и полно самим автором. «Герой романа, — пишет А. Моруа, — не отражение всей личности автора, а лишь какой-то фрагмент его «я», часто весьма ограниченного. Оттого что Пруст пишет чудесные страницы о ревности, я бы поостерёгся считать самого Пруста ревнивцем, особенно к концу его жизни. Достаточно писателю испытать известное чувство более сильно в течение нескольких дней, в течение нескольких минут, чтобы он стал способным его описать»[581]. Поэтому и Андре Жид согласен с критиком Тибоде, который считает, что по-настоящему одарённый автор создаёт своих героев с помощью «бесконечных возможных направлений своей жизни». «Создатель романа оживляет возможное, а не воспроизводит реальное»[582], — заключает Тибоде.
На помощь духовному приспособлению к автору приходит и физиологическое, неоднократно испытанное в повседневной жизни. Если всякое внутреннее движение, всякий образ, всякое чувство, всякое желание связано с малой или большой мускульной иннервацией, являющейся отзвуком духовного в физическом, материальным компонентом неуловимой душевной волны, нетрудно, вызвав каким-либо образом снова эту мускульную иннервацию, возбудить и усилить соответствующую духовную энергию. В данном случае большую услугу оказывает чисто внешнее сходство «выразительных» движений, усвоение без объективного повода мимики, позы или жеста, которые предполагают определённые внутренние состояния. Несомненно, что коль скоро это подражание телесному будет предпринято сознательно и будет точно напоминать внешние проявления характера в таких-то и таких-то случаях и коль скоро оно поддерживается представлением о мыслях и чувствах соответствующего лица, неминуемо наступит внутреннее подражание, скрытое органическое приспособление, необыкновенно облегчающее углубление в характер, отгадывание значения, какое имеют слова или действия[583]. Становясь, таким образом, на место изображаемого лица, мы можем оторваться от своих личных расположений или от настроения момента, проникнуть в чужую душу и испытать её волнения со всеми их последствиями.
Искусственно вызванное вживание превращается в симпатическое переживание, в соответствии со своими характерными видимыми или осязаемыми проявлениями движения, слов и мимики, о которых ранее не думалось. Это понял ещё Аристотель, когда в 17-й главе своей «Поэтики» писал, что поэт должен, «видя [всё] вполне ясным образом и как бы присутствуя при самом исполнении событий… находить то, что следует, и от него никогда бы не укрывались противоречия»[584]. Отсюда и его рекомендации:
«Насколько возможно, поэт должен представлять себе и положение действующих лиц, так как в силу той же самой природы вернее всего передают [какое-либо душевное движение] те, которые сами переживают его»[585]. Гамлету есть чему удивляться при виде того, что делается с актёрами, глубоко вошедшими в свои роли: вместо устной декламации без глубокого переживания они сразу принимают серьёзную позу, лица их бледнеют, глаза наполняются слёзами, голоса дрожат. «И всё из-за чего? Из-за Гекубы!» Если «в воображенье, в вымышленной страсти»[586], возможно такое волнение, то что должен был делать сам Гамлет, имея личный повод к таким страстям? Практически применяет этот закон о психофизической зависимости герой Эдгара По. «Когда я хочу знать, насколько мой противник умён или глуп, добр или зол и какие у него мысли, я стараюсь придать своему лицу такое выражение, как у него, и замечаю, какие мысли или чувства появляются у меня в соответствии с этим выражением»[587]. Не будучи актером или физиономистом, поэт часто прибегает к этому практическому методу в понимании душ.
Игра воображения сначала, слияние с характером в дальнейшем ведёт к внутренним переживаниям, переносящим поэта в новый мир. Здесь не имеет значения, созданы ли образы, которые его занимают по памяти, непосредственным опытом или же с помощью интуиции. Они одинаково захватывают автора и заставляют его забыть себя, играть роли и чувствовать себя другим. Не находится ли в таком же состоянии каждый читатель с богатым воображением? «Я как будто играю настоящий спектакль, — пишет Альфред де Виньи после прочтения «Юлия Цезаря» Шекспира, — и постепенно вбираю в себя все великие души героев»[588]. Ни при воспроизведении по влечению чужих образов, ни при создании таковых им самим, поэт не бывает пассивным, а участвует своими нервами и душой в этом процессе. Возвращаясь к теме Фауста и вспоминая свои юношеские мечты, воплощённые в драме, и тени своих первых друзей, Гёте признаёт в «Посвящении»:
Всё, чем владею, вдаль куда-то скрылось;
Всё, что прошло, — восстало, оживилось!..[589]
К прошлому, воскрешённому в его былом очаровании, возвращается и Пушкин, когда чувствует себя угнетённым настоящим:
Я был далеко…
Я видел вновь приюты скал…
Где я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал…
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал[590].
Вдохновение, обрисованное здесь в своих самых характерных чертах, способно в первую очередь легко отключаться от настоящего. Действительность и поэзия оказываются двумя противоположными стихиями: в то время как действительность — детище восприятия, поэзия — продукт воображения; она характеризуется каким-то сонным состоянием и ставит нас перед невозможностью принимать во внимание настоящее. Чуждый всему внешнему, раб своих видений, полностью объятый чувствами, желаниями или инстинктами своих героев — таким кажется нам поэт в момент вдохновенной работы. Молодой Лермонтов признавался, что он восполнял мгновения, проведённые среди докучного общества, таинственными сновидениями»:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Психология литературного творчества"
Книги похожие на "Психология литературного творчества" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Арнаудов - Психология литературного творчества"
Отзывы читателей о книге "Психология литературного творчества", комментарии и мнения людей о произведении.