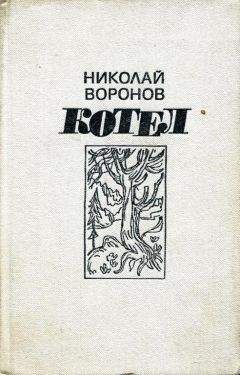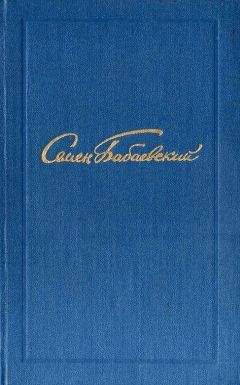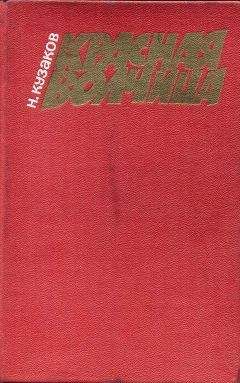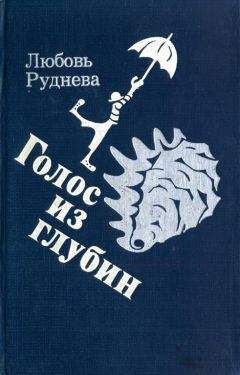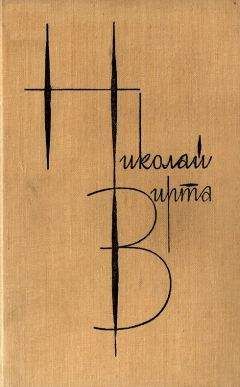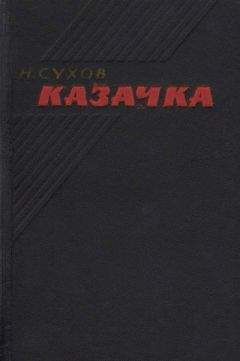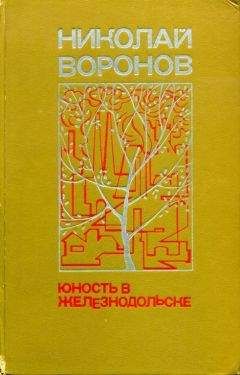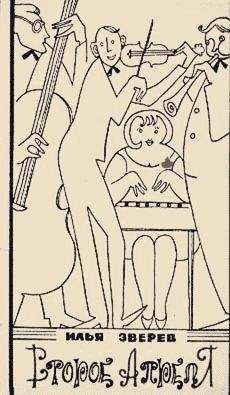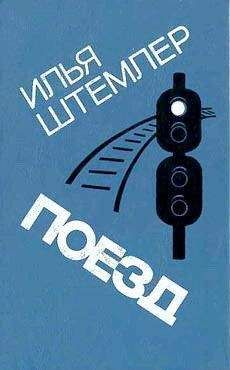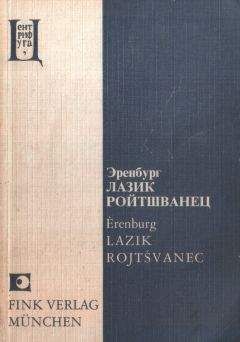Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней"
Описание и краткое содержание "Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней" читать бесплатно онлайн.
В книгу вошли романы «Любовь Жанны Ней» и «Жизнь и гибель Николая Курбова», принадлежащие к ранней прозе Ильи Эренбурга (1891–1967). Написанные в Берлине в начале 20-х годов, оба романа повествуют о любви и о революции, и трудно сказать, какой именно из этих мотивов приводит к гибели героев. Роман «Любовь Жанны Ней» не переиздавался с 1928 года.
Курбов прискакал. Глаза сначала поверх, мимо: яркое и неуютное тряпье осеннего заката, в небе птичьи чертежи, рябина. Потом увидал: висит, на лбу звезда, на шее ремешок. Вплотную подъехал — лошадь билась. Пальцы комсомольца, запятнанные чернилами, напоминали: тетрадка с отогнутыми полями, пенал, ученическая прокламация. Курбов крикнул громко, никому, сильнее сжав поводья:
— Хорошо! О-чень хо-ро-шо!
В тот же вечер словили белого. Молоденький. Чем-то так напоминал комсомольца, что Николай машинально глядел на руки: нет ли чернильных пятен? Вели его. Храбро втягивал губы. Сорвал на ходу ягоду рябины — и в рот. Вспомнил дачу в Конюшках перед отъездом, когда пестреют астры, бьется парусина, возы, экзамены и мама. Мама! Не выдержал — упал. Просит Курбова: всё вместе — гимназия, сестренка торгует спичками, страшно умереть, шестнадцатого сентября — день рождения, ради Бога!.. Курбов, даже не отвернувшись, густыми темными зрачками глядя на белую рубашку (шинель содрали) — пусто и светло, — голосом отмерил:
— К стенке.
На небе красное тряпье. Здесь, вместо дисков, бессмысленная кровь и гадкая, густая духота.
15
После тот же фронт: тысячи заседаний, одних отметок, когда и где, версты. На пустых заводах. В залитых шахтах Донбасса. Субботники: брошюрочными ручками подталкивать вагоны; промерзшее железо жжется. Дискуссия. Хрипота, отчаяние, стакан воды, в стакане «гибнущая революция». Сразу, вместо революции и резолюции — лай телефона, тоже осипшего: «Тревожно… партийная мобилизация». Билет РКП № 32 618. Снова с винтовкой. Промозгло. Пудовый шаг. Под утро сводка и морковный чай в нетопленном районном клубе, где пахнет участком, мышами, шинельной дисциплиной. Только отхлебнул — уж ждут: комиссия. Финансы. Транспорт. И в глазах рябит, как куст рябины, как небесное тряпье: диаграммы.
В барские гостиные, вслед за бородой Маркса и махоркой, втерлись «разверстка», «трудфронт», «Рабкрин». Теперь у Курбова не компас — портфель, похожий на мешок хозяйки с провизией: кому штык, кому трактор. Давно уже нет людей. Остались цифры, беспокойные, требующие тщательного ухода. Их обуть, насытить калориями, просветить, ввести в обетованный парадиз, приснившийся когда-то (число к числу приходит в гости). Считал и, даже засыпая, еще нырял в глубокие прохладные нули. Глотая наспех ершистый хлеб, давился не усищем — какой-нибудь просчитанной семеркой. Был рьян и праведен, когда вступая в клубы дыма, где страсти, подвохи, обходы, выравнивал сердце в колонны цифр:
— Необходим единый план.
Потом отчаяние: «Ну я, еще две сотни на верхушках. Из рабочих лучшие погибли. Крестьяне, сопя и чавкая, почесывая пуп, ждут — привстать. Теперь в кольце не Олег, не Зимний — мы. Да что крестьяне! Партия — почти что тесто. Взошло, ползет, вот-вот за миллион зайдет, как рубль — хапуны сюда, юлы, коты. Пожалуй, Власов нынче коммунист! Старые, свои и те поддались: принимая, рявкают по-генеральски, плюс братья и сватья, плюс страсть к изящному, до балерин включительно, плюс…» (Так по привычке считал партийные прорехи, как «пробки» или «незасеянную площадь».)
Прежних встретил; Глеб, когда-то ходивший на собрания, как в департамент, теперь торжественно и веско водрузил свое революционное седалище на кресло главка. Уже в передней пахло сановной скукой. Знал все пайки: «трамотский», «богдановский» и даже «милицейский». Пользовался лошадьми, и кучер Захар, несмотря на кризис, в грудях не подался, в окриках же был стилизатором: не то «поди!», не то «пади!», но так, что все неответственные — регистраторши, нештатные инструктора и прочие — готовы были тотчас же и пойти, и пасть. Пять минут пятого товарищ Глеб, загребая разные пайки под полсть, отбывал, причем мурлыкал грозно в кучерскую спину:
— И решительный бой…
Тимофей после изгнания меньшевиков закис. Без дискуссий он и дня не мог прожить. Война, блокада, голод, все равно, он об одном: взять бы партию, нашинковать, чтобы было много-много фракций, и после — фракция на фракцию…
Шел 20-й — третий, тягчайший год. Курбов, ослабев от пчелиного гуда в ногах до полегчания (еще немного — полетит), работал, не Курбов с биографией — икс с портфелем. Пока пришло «событие» — пустячное, из мелкой хроники, но много ль надо человеку?.. Шел по Моховой. Увязалась девочка:
— Подайте!..
Дал бумажку — не берет: «Хлеба!» Долго, среди зимней чумной тишины, бился голосок. Потом — в снег. Ноги в огромных солдатских сапожищах попорхали. Слюна. Хрип. И все. Николай — над ней. У самого такой же хрип, топорщась, прыгал в горле. Лезло из какого-то доклада: «Задержка грузов… банды… транспорт… в Москве не выдавать до двадцать первого числа…» Потом в доклад прополз осипший Сергеич: «Просыпься».
Дрожал. Снял драное пальтишко — тряпье ударило в нос уксусной кислой нищетой, — зачем-то отогреть пытался, как паровоз, дышал на лобик. В отчаянии искал тропинки от числа до этих невыносимо выпиравших ребер. Не отыскал. Но только долго стоял, сутулый, давший крен. Потом пошел и сразу — на знакомое пенсне: меньшевик. Приятелями были. Пенсне не медля:
— Что же? Хлеба нет?.. А у крестьян все отбирают… Уже в Тамбовской начинается… Мы ведь предупреждали… Народное хозяйство в корне расстроено…
И, выложив, блестит стекляшками: посмотрим, что он возразит? Ведь это же правда! Но Курбов молчит. Весь — ненависть.
— Уходите! Не то я вас сейчас же застрелю…
Пенсне — бегом. Поскользнулось, разбилось. И Николай неправдоподобно, как трагик в провинции, захохотал: ха! ха! Быть может, он и прав. А впрочем… Говорят, социалисты. И вот теперь на этой улице, где только что — ребра и салазки — злорадство. Нет, не слова нужны здесь, огромный пулемет. Собрать, ну, скажем, на конгресс, выстроить рядами и в полчаса всех ликвидировать.
Дальше! Но пенсне все лезло и дразнило разбитым стеклышком из темноты. К нему присоединились: седалище Глеба, шейка Мариетты и даже кряхтящий Сергеич. Мешают. Облипают потными тушами, смехом, ропотом, икотой. Ненависть, поклокотав, ушла морозным дымком. Стал, как всегда, прикидывать. Всю ночь нырял: из сугроба в сугроб. Под утро, вспомнив, вычислив, где-то на Садовой сам себе заботливо, как врач, сказал рецепт: необходим усиленный террор. Шапку — на лицо, руки — в рукава. Двигался по всем Садовым, не человек, но танк.
И днем, когда в Цека секретарь тупил перо, когда брезгливый Ялич, увиливая, рвался в Наркомпрод, Курбов, тоску вчерашнюю откинув, пошел туда, куда его вели любовь к числу и дикий подвиг, — в презренную чеку!
16
Можно взять простого человека, курносого ветеринара, который кормит слюнявых племянников шепталой[29], добряка, мечтателя и ротозея, подклеить к носу закорючку, подмазать, обработать — и в полчаса готов злодей. Племянничек посмотрит — навек забудет о шептале. Взяли дом. Обыкновенный. В номерах жильцы: немцы-коммивояжеры, молодожены из грустных захолустий — поглядеть «Омона» и «Трех сестер», орловский помещик — без «Сестер», один «Омон» и прочие. В подвалах — удельное. На черных лестницах котята и кухаркины ребята содружно пачкали, так что дух захватывало, а среди двора шарманщик проклинал разлуку и, предвидя гнев дворника, наспех подбирал пятак заспавшихся молодоженов. Словом, дом. Взяли и сделали такую жуть, что пешеход, подрагивая даже в летний зной, старательно обходит — сторонкой. Ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть: «Лубянка», взглянет на босые ноги, со всем простится, молодой, здоровый — бык — заплачет, как мальчонок. Волчьи головни автомобиля, меховые куртки, дрожь председателя домкома: «Собирайтесь… гражданин…» — и надо всем — Лубянка!
Взяли дом, и стал он мифом. Лестницы, как будто их придумал Пиранези: тридцать три заледеневшие ступеньки, дуло, вверх — решетка, вниз — подвал. Там духота, темнота, икота. Скользко. Табун автомобилей, храпящих, ржущих, мяукающих, вздыхающих отчетливо раздельно, как баба на полатях. Войти и выйти — легче умереть. Заставы. Заграды. Здесь — штык. Там — смрадная параша. Во дворе — проходы, переходы, тупики. С лестницы на лестницу. Чем дальше, тем страшнее. Одна ступенька — и забудь, что на Лубянской площади оттепель, призывной с гармошкой, ребята, устроившие в заколоченных ларях хижины индейцев, что там, за пропуском, штыком, за некоей дверью — смех и жизнь.
Впрочем, Курбов не испугался, не заблудился, не грезил о винтах Пиранези — вошел спокойно, как в любое учреждение. На площадке поискал дощечку (некогда «массаж Цилипкис») — «Оперативно-секретный подотдел».
Войдя, увидел комнату, обычную, советскую, обсиженную, обкуренную — канцелярия. Был в этом некий быт, почти уют: схема девяти отделов цветными карандашами, портреты (и в секретном чуть-чуть насмешливо лоснилось знакомое лицо наркома, любящего муз), две машинки: «ундервуд» и «ремингтон», на большом столе — домашние лепешки, пролитые красные чернила, совсем оперативные, рубашки «дел», зачитанная книжка: — Кнут Гамсун, «Виктория». Над «Викторией» — Людмила. Между двумя бумагами о применении «высшей меры», она, то есть барышня с машинкой, то есть Людмила Афанасьевна Белорыбова, читает, как Виктория любила, и томно ноет белорыбовское медлительное сердце. Бела, мучниста — вареная картошка. Булку приготовили, испечь же позабыли. Глядит — глаза как студень. Бровей, ресниц и прочих отступлений нет. Лицо как таковое. Под блузкой, что еще, крепясь, скрепляет нечто, лишь поскрипывая при неожиданном повороте, ясно, утверждается такое же тело. Чрезвычайно флегматична, хоть двадцать четыре года, любви еще не знала, если не считать сочинений Кнута Гамсуна и прочих, из библиотеки в Петровских линиях. Правда, замзав, товарищ Андерматов, как-то упав в эти рыхлые и тряские просторы, лишил Белорыбову внешних атрибутов девственности, вознаградив ее за это хорошим, тихим местом в чеке. Но, пренебрегая видимостью, можно смело назвать Людмилу Афанасьевну девой. Андерматова не оттолкнув по прирожденной флегме, она восприняла минуты страсти как небольшую неприятность, как, гимназисткой, уроки гимнастики и впоследствии, девицей, — танцы. Ничего подобного Виктории и прочим ветреным особам, от взгляда теряющим голову, Белорыбова не испытала; быть может, не пришел один, особый, способный поймать в сети белорыбовское сердце, быть может, Белорыбовы, как рыбы, не знали человеческих страстей. Зато она очень любила сон, тепло и бутерброды с чайной колбасой (конечно, еще вкуснее с языковой, но времена не те). Поэтому инциденту с Андерматовым обрадовалась: кстати.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней"
Книги похожие на "Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней"
Отзывы читателей о книге "Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней", комментарии и мнения людей о произведении.