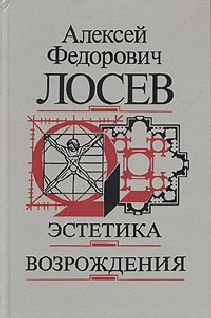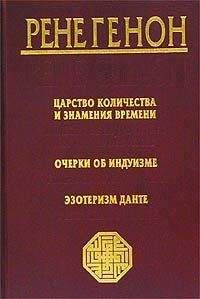Алексей Лосев - Очерки античного символизма и мифологии
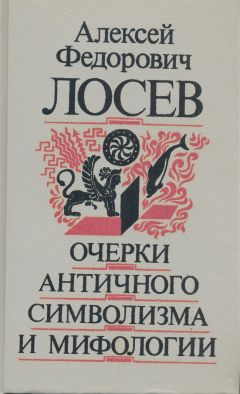
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Очерки античного символизма и мифологии"
Описание и краткое содержание "Очерки античного символизма и мифологии" читать бесплатно онлайн.
Вышедшие в 1930 году «Очерки античного символизма и мифологии» — предпоследняя книга знаменитого лосевского восьмикнижия 20–х годов — переиздаются впервые. Мизерный тираж первого издания и, конечно, последовавшие после ареста А. Ф. Лосева в том же, 30–м, году резкие изменения в его жизненной и научной судьбе сделали эту книгу практически недоступной читателю. А между тем эта книга во многом ключевая: после «Очерков…» поздний Лосев, несомненно, будет читаться иначе. Хорошо знакомые по поздним лосевским работам темы предстают здесь в новой для читателя тональности и в новом смысловом контексте. Нисколько не отступая от свойственного другим работам восьмикнижия строгого логически–дискурсивного метода, в «Очерках…» Лосев не просто акснологически более откровенен, он здесь страстен и пристрастен. Проникающая сила этой страстности такова, что благодаря ей вырисовывается неизменная в течение всей жизни лосевская позиция. Позиция эта, в чем, быть может, сомневался читатель поздних работ, но в чем не может не убедиться всякий читатель «Очерков…», основана прежде всего на религиозных взглядах Лосева. Богословие и есть тот новый смысловой контекст, в который обрамлены здесь все привычные лосевские темы. И здесь же, как контраст — и тоже впервые, если не считать «Диалектику мифа» — читатель услышит голос Лосева — «политолога» (если пользоваться современной терминологией). Конечно, богословие и социология далеко не исчерпывают содержание «Очерков…», и не во всех входящих в книгу разделах они являются предметом исследования, но, так как ни одна другая лосевская книга не дает столь прямого повода для обсуждения этих двух аспектов [...]
Что касается центральной темы «Очерков…» — платонизма, то он, во–первых, имманентно присутствует в самой теологической позиции Лосева, во многом формируя ее.
"Платонизм в Зазеркалье XX века, или вниз по лестнице, ведущей вверх" Л. А. Гоготишвили
Исходник электронной версии:
А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.2] Очерки античного символизма и мифологии
Издательство «Мысль»
Москва 1993
Диалектическая έπιστήμη есть буквально (от ΐστημι) «привхождение», «стояние при вещи». У Гомера еще не сразу поймешь, где тут «знание», где «стояние при вещи»:
Я и его под песком погребу и громадой камней
Страшной кругом замечу; не сберут и костей Ахиллеса
Чада Ахеян[148].
Перевод Гнедича тут не передает точно нужного нам оттенка: «не соберут, костей» — по–гречески ουδέ… έπισ–τήσονται… άλλέξαι, т. е. не будут в состоянии (схолиаст: δυνήσονται) собрать, не окажутся тут, — возле, чтобы собрать. Иной раз этот глагол прямо говорит о физической силе, и его необходимо соединять с первоначальной моторной интуицией [149], как οίδα — со зрительной. У Гомера он большею частью значит «sich auf etwas verstehen, kon–пеп»[150]. To же у Пиндара, Геродота и др.[151] Что эпистем–ное знание очень близко к «техническому» (от τέχνη), об этом уж не раз делались наблюдения. В сократических диалогах Платона это сближение — обычно, да и вообще до Аристотеля едва ли эти понятия были особенно четко различаемы. В аттической философии эпистемное знание, в связи с духом времени, приобрело весьма широкий смысл и стало охватывать все виды знания, не только знание, двигательно направленное на чувственные вещи. Но и тут надо отдавать себе полный отчет в значении этого слова.[152]
Сократовская философия, говорят, есть этика, и. эпистемное знание направлено у него на этические понятия. Но что такое αγαθός, слово, столь бесцветно переводимое нами как «хороший», и что такое αρετή, слово, которое еще до сих пор переводят как «добродетель»? Αγαθός ровно не имеет никакого морального смысла. Теперь первоначальный смысл этого слова пойимают как «приличный», «подобающий» и выводят из религиозно–ритуальной сферы. Оно употребляется и относительно людей, и относительно вещей, и я бы его часто переводил как «настоящий», «правильный», «соответствующий цели». Нельзя ведь сказать по–русски: добродетель свиней, лошадей, добродетель карандаша, пера, сапога. Вот почему «хорошее» или «благое» у Сократа совпадает с «полезным» и «нужным». И вот почему система платонизма увенчивается этим «Благом», которое почти вся толпа исследователей Платона и Плотина упорно продолжает понимать этически, хотя оба философа называют его солнцем, дающим силу видеть и быть видимым, и, след., пребывающим само по себе уже как нечто сверх–видимое и сверх–видящее. Ясно, что «Благо» платонизма есть обоснование зримой мировой скульптуры, а не какая–то скучная моралистика, к которой силится большинство свести Платона. У нас даже нет такого термина, чтобы передать это платоническое Αγαθόν. И мы никак не можем понять, что переводить подобные термины с греческого на современный европейский язык все равно что впечатление от античной статуи передавать средствами современной балалайки.
Αρετή, «добродетель», которую эпистемно исследуют Сократ и Платон, всегда имеет под собой значение способности строить, мастерить, конструировать. Снелль прямо говорит: «Образ ремесленника, из которого постоянно снова исходит Сократ, имел для него гораздо большую, чем просто иллюстративную, ценность»[153] А Г Мейер [154] написал целую книгу, в которой доказывает, что Аристотель решительно во всех главнейших построениях своей философии имел искусство в качестве основного опыта и образца, исходного пункта для философствования. Даже Платон не раз отмечает эту знаменитую склонность Сократа к плотникам, кожевникам, сапожникам и т. д., хотя у него самого мастер, δημιουργός, тоже смотрит на «идею», чтобы сделать стол или кровать. Кто вчитывался в греческий философский текст, тот заметил, что как γιγνώσκω связано с αρχή, «началом», «принципом», как συνίεναι связано с «логосом», так έπίστασθαι[155] связано с τέλος, «целью», с αγαθόν, «благом», «добром». Вот почему ιδέα του αγαθού[156]—венец платонической философии и исходный пункт всей античной диалектики, — оказалась только смысловой силой бытия, организованного как художественное целое, как изваяние; и вот почему не только у Гераклита «глаза более точные свидетели, чем уши» [157], но и у Платона — «философия есть величайшее благо очей».[158]
Так рождается греческая философия в стройную теорию, получая у Платона и Аристотеля форму диалектического осознания объективного строя скульптурного космоса; и так гибнет она, когда Плотин и Прокл дают полное диалектическое осознание и всех внутренно–интимных корней греческого духа, т. е. языка, и когда строят они законченную диалектику всей греческой мифологии. С мифа началась философия, мифом и кончилась. Но в начале мифология — слепая и жизненная интуиция и сила, в конце — разумно явленная смысловая система духа. Там и здесь одухотворенное тело и его изваянный лик — единственная руководящая нить жизни и мысли.
28. Итоги. В заключение, резюмируя сказанное, формулируем основные черты древнегреческих символических построений и теорий.
1. Античный символизм (если его брать как теорию) есть учение о бытии, или онтология, поскольку последнее понимается как явленный лик и осмысленно–телесное изваяние, и платоническая, напр., эстетика есть не что иное, как учение об идеях и идеях–символах. Античные эсте–тическо–антропологические и эстетическо–педагогические теории, в общем, также не различают между бытием или вещью и художественной формой, откуда явствует, что в Греции нет и не может быть никаких только эстетических жизни и воспитания[159], что т. н. эстетическое воспитание античными теоретиками мыслится и оправдывается всегда только как завершительный момент общего устроения.
2. Античный символизм понимает красоту как нечто принципиально ограниченное телесным и материальным миром (даже платоническое возвышение в умный мир есть только переселение с темной и тяжелой Земли на светлое и тонкое огненное Небо), почему его[160] учение об идеях–символах есть в основе учение о мире как произведении скульптуры; скульптура совмещает жизненность и конкретность бытия, доходящую до человеческого тела, с идеальностью и безболезненностью, доходящей до безглазых и холодных мраморных изваяний. Это остается и тогда, если под символизмом понимать не теорию, а практику жизни. Античные социально–политические, этические, эстетическо–педа–гогические и прочие теории имеют целью воспитать земного и телесного человека, жизнь которого всецело ограничена его жизнью на Земле и в теле, но они хотят сделать такого человека биологически–прекрасным и благородным, максимально похожим на беспечальных и бессмертных олимпийцев, так что и Небо греков есть та же Земля, но только данная во всем благородстве и чистоте своей из–ваянности.
3. Как в античном символизме, в античной эстетике нет чистого духа, данного в своей абсолютной идеальности (наиболее «духовный» платонизм есть все же теория пантеистического космоса), и как нет тут чистого тела, во всей своей абсолютной бесформенности и, быть может, безобразии (наиболее «материалистически» настроенный эпикуреизм живет в своем утонченно–философском «саду» у Ди–пилонских ворот мудрым и эстетически–самонаслаждаю–щимся размериванием телесных наслаждений), — так и в античных «практических» теориях эстетического воспитания и общественного строительства отрицается полезность и нужность развития одного ума, или одного тела, или одной морали. Эти теории просто не знают, что такое эти сферы сами по себе, взятые вне их объединенности с другими. Музыка у Аристотеля, напр., есть средство воспитания ума. «Этическое» воспитание у Платона просветляет и очищает опять–таки ум. Гражданские добродетели у Плотина должны вести также к уму. И т. д. Быть может, нигде вообще или нигде в такой мере, как в Греции, не проповедовалось физическое и моральное воспитание ради усовершенствования ума и очищения созерцания. Это возможно было только благодаря тому особенному, античному складу «ума», который делал этот ум «местом идей», т. е. местом скульптуры и пластики вообще. Можно и нужно было «помогать ближнему», но не для «помощи» и не для «ближнего», а для умозрения и эстетики. Можно и нужно было устраивать и регулировать государство и общество, но не для прогресса как такового и не для общества как такового, а ради идеально–телесных умозрений. Отсюда самая «идеальная» и «моральная» философия, платонизм, есть вместе с тем и апология рабства.
4. Античный символизм очень мало имеет общего с западной эстетикой в смысле степени своей автономности.
Прекрасное в античном смысле не есть то отъединенное и изолированное прекрасное, что мы мыслим теперь, переживая его так, что оно не зависит у нас от самих фактов. Кант прекрасно формулировал эту западную точку зрения в своем учении об эстетической целесообразности и, главным образом, в учении о бескорыстии. Не то в античности. Там прекрасно — то, что биологически и жизненно отвечает своей цели; прекрасно — добротное, сильное, здоровое, живое, — если хотите, «полезное». Поэтому чистое искусство, «искусство для искусства», — это не античный стиль, это — противно античным теориям. И не только Платон изгоняет таких художников из своего государства. Это — убеждение всей Греции. Но это–то и значит, что искусство в нашем смысле имело там лишь гетерономное и лишь прикладное значение. С нашей точки зрения это так, ибо мы смотрим на искусство гораздо духовнее и гораздо более считаем его самодовлеющей сферой. Для античности же тут не было никакой гетерономии или утилитаризма. Ведь античность, как и Средние века, есть религиозная культура и религиозная жизнь. Поэтому, биологически–прекрасное (а оно для язычников–греков и было религиозно прекрасным) не переживалось там как «прикладное». Наоборот, это–то и было там настоящей автономией. Вот почему Платон оставляет в своем государстве все виды искусства, под условием, чтобы они не были «подражательными», т. е. под условием, чтобы они были подлинным выражением религиозной души, а не простым изображением этой души, т. е. в античном смысле слова подлинно автономными. Это все относится и к теориям этики, общества, государства, эстетического воспитания и пр. С нашей точки зрения они — гетерономны, морали–стичны; они «подчиняют прекрасное этическому». Но совсем не то было для самих греков. Для них автономия прекрасного не в том, что оно существует само по себе, как «идея», как «бескорыстное наслаждение», но в том, что оно есть прекрасная жизнь, т. е. здоровая, благородно–телесная, прекрасно–осуществленная жизнь. А так как язычество есть религия тела, то автономным для грека и было то, что является благородно–телесным, т. е. скульптурным и изваянным целым. Поэтому, античная теория эстетического воспитания, хотя и воспитывала для «морали», для «ума» и для «тела», все же оставалась всегда по существу основанной не на чем ином, как на автономии искусства.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Очерки античного символизма и мифологии"
Книги похожие на "Очерки античного символизма и мифологии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Лосев - Очерки античного символизма и мифологии"
Отзывы читателей о книге "Очерки античного символизма и мифологии", комментарии и мнения людей о произведении.