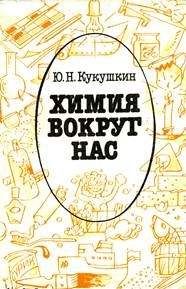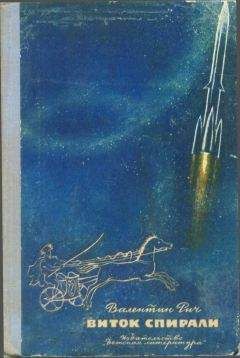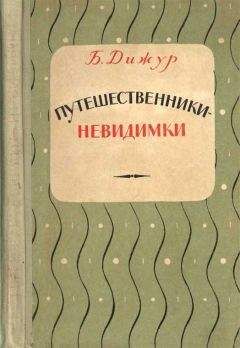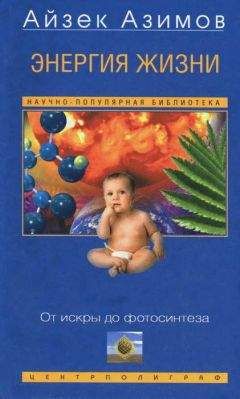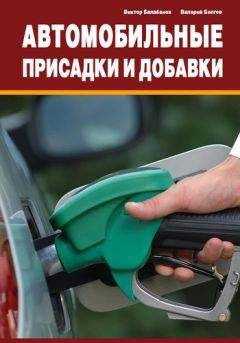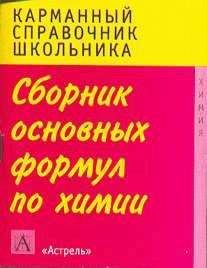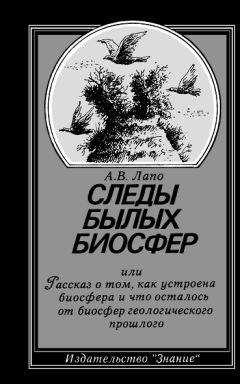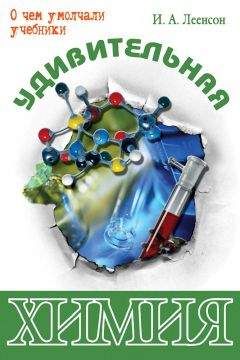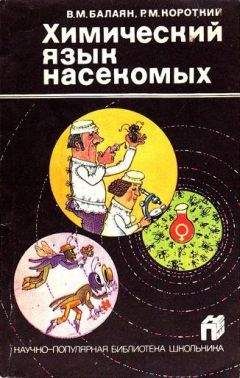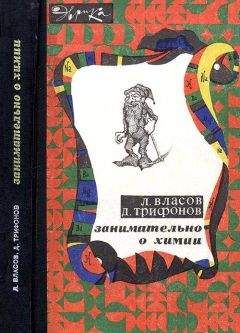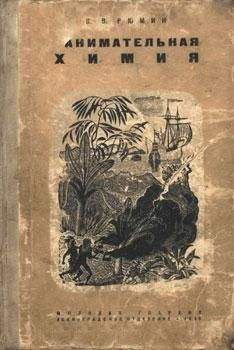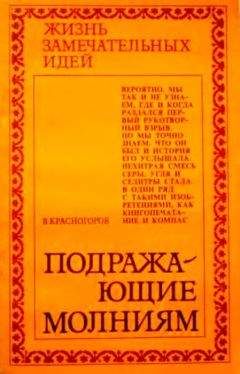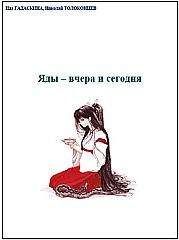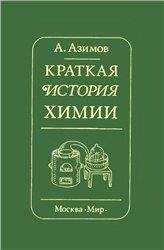Вадим Рабинович - Алхимия
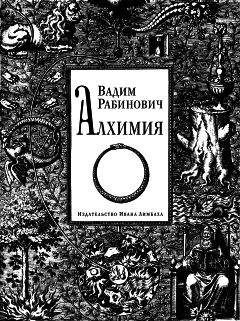
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Алхимия"
Описание и краткое содержание "Алхимия" читать бесплатно онлайн.
Основой настоящего издания является переработанное воспроизведение книги Вадима Рабиновича «Алхимия как феномен средневековой культуры», вышедшей в издательстве «Наука» в 1979 году. Ее замысел — реконструировать образ средневековой алхимии в ее еретическом, взрывном противостоянии каноническому средневековью. Разнородный характер этого удивительного явления обязывает исследовать его во всех связях с иными сферами интеллектуальной жизни эпохи. При этом неизбежно проступают черты радикальных исторических преобразований средневековой культуры в ее алхимическом фокусе на пути к культуре Нового времени — науке, искусству, литературе. Книга не устарела и по сей день. В данном издании она существенно обновлена и заново проиллюстрирована. В ней появились новые разделы: «Сыны доктрины» — продолжение алхимических штудий автора и «Под знаком Уробороса» — цензурная история первого издания.
Предназначается всем, кого интересует история гуманитарной мысли.
В ситуации «Словопрения…» — иное. Если язык — действительно «бич воздуха», то «бич воздуха» — вовсе не язык. Или не только он, а что-нибудь еще. При обратных загадываниях вопросы-ответы в кантилену, единое — загадочное — целое, не сцепить. Самотождественность рушится. Распадается не только связь вещей, но и связь имен, что во времена Каролингов куда смертельней, потому что избывает себя при-частность, приобщенность к всеобщей значимости — Абсолюту. Загадочная самодостаточность мира как произволение Творца при оборачиваемости ответов-вопросов рушится. Мир как связь имен-вещей сходит на нет.
Почти современная картинка из энциклопедического словаря. А ведь цель Урока загадок иная — умиротворяющая. А при переворачивании естественно-номинативная связь вещей распадается. Если вопросы нынешнего Пипина-экзаменатора кажутся вопросами из разных областей — наугад, а не на загад, то в Уроке загадок Алкуина исторического загадочные вещи-имена естественно сцеплены чередою самих вопросов. А на современном экзамене связь принципиально иная. Она — причинно-следственная, научно-исследовательская связь (живая в исследовании и как бы мертвая в нынешней педагогике справочно-энциклопедического типа). Смысл и сущность как бы слиты в эссенциальной — сущностной — логике Нового времени.
В «Словопрении…» — иначе. Словесно-номинативная связь всеохватывающей кантилены не отменяет живого ощущения внезапно явленной взору и слуху вещи — метафорически неожиданной, акмеистически конкретной, божественно всецелой. Знать ее — не означает доискаться ее понятийной сущности. Знать вещь для человека тех времен — это содеять себя как взыскующего смысл. Но прежде лицом к лицу — лоб в лоб и глаза в глаза — столкнуться с этой вещью и с той — казусно, удивленно, восхищенно. Шок. Но ради единично-всеобщего Смысла. И конечно же, не ради знания сущности (по сходству или по функции): совсем не похож язык на бич воздуха. Каждая вещь мира загадана. Загадан и мир в целом. А где разгадка? Она в трансцендентном зазеркалье, никакими учебно-книжными ухищрениями не извлекаемая. Но чтобы внять миру как загадке-чуду, нужно пройти прихотливый и затейливый путь казуснометафорической педагогики, с виду решительно противостоящей новой сущностной педагогике.
Но: неужели и в самом деле стена меж Алкуином историческим и испытуемым (или испытующим) времен новейших? Тогда и впрямь — эволюция, лишь освобождающая последующие этапы учительства-ученичества от «детской наивности» и «глуповатой недоразвитости» этапов предшествующих.
Но… я сказал: «освобождающая от детской наивности…» Впадем — временно — в детство. В наше детство. Или — что то же — припомним источник. Это — Корней Чуковский, «От двух до пяти»: «Папа, если в прошлом году будет война, тебя застреляют? — Может быть. — И от тебя ничего не останется? — Нет. — Даже точки? — Да. А ты меня будешь жалеть? — Чего же жалеть, если даже точки не останется».
Слово сказанное в восприятии ребенка в силу того, что оно сказано, — в высшей степени правдивое слово. Никаких метонимических переносов. Оно, это слово, сталкиваясь со словом иного ряда, — «жалеть», высекает бенгальски неожиданную искру удивительности-удивленности, казусной ошарашенности для детского глаза, для взрослого уха. Зрительно-слуховой удар. Взгляд новичка. Еще не знаемое залатывается уже знаемым. Внезапно, как снег на голову. Лишь бы побыстрее оприходовать новый предмет, новое чудо-юдо. А коли названо, то уже и не чудо. Но чудо иного рода: для практического уха взрослого человека, если только оно не разучилось еще удивляться живому детскому слову как естественному источнику речевого удивления. Детство жизни? Детство каждого взрослого? А может быть, странным образом оставшаяся лишь в быстротечном пространстве от двух до пяти память о некоем исторически завершенном типе мышления, который был да сплыл?.. Вечное (?) «от двух до пяти» — словосмешения, верчения слов, перекосы и перегуды синтагм и фонем, сполохи и внезапности чудословия. Словосмесительство. Речевой шок. Восстановим удивление всем этим!.. Ведь пласт жизни в слове от двух до пяти, слава богу, еще не истреблен…
А почему, собственно, только от двух до пяти? Может быть, и далее — тоже? Внезапная остановка действительности. Вот она какая удивительная! Кинокадр вдруг и резко, как в ступоре, сдвинутой жизни в сдвинутом слове. Ежемгновенное удивление, детскость мировидения, вынесенные за пределы детства… Осуществимо ли это чаяние?.. У поэтов и артистов — да. А вот у прочих образовывающихся?..
И вновь Алкуин из VIII века с его Уроком загадок. Что же делать нам, представителям быка-за-рога-берущего энциклопедически-сущностного мышления, с каролингским учителем и его казусной педагогикой? Посчитать этот урок пародией самого Алкуина на не очень еще развитое дело его собственного времени? Или детством ученичества вообще, лишь в наше время доискавшегося сути мира, сути всех его вещей, и отпечатавшего эту универсальную причинно-следственную суть в мудрости «энциклопедического словаря»? Или игрой как дидактическим приемом? Или способом сохранить как можно дольше детское восприятие жизни в качестве эвристического восприятия?.. Но и тогда Алкуиново мышление — лишь средство в современном проблемно-ускоренном обучении ради интенсификации приемов того же обучения. Но все эти возможности снимают уникальное учительско-воспитующее слово Алкуина — исторически непреходящее, но столь же исторически неуходящее слово, если только усилиями гуманистически-гуманитарной мысли будет длиться диалогическое ратоборствующее собеседование разновременных и разнопространственных культур. Только таким образом, казалось бы, давно исчерпавшая себя исторически завершенная «казусная» логика Алкуина, собственно, и может явить себя в культурно-историческом первородстве, и лишь потому — в гуманистической самоценности, живой актуальности. Только обращение к истории может придать живость голографического изображения любой из становящихся сейчас общечеловеческих проблем. И просвещающего образования — тоже. История ставшая могла бы стать самоценной составляющей человека становящегося, делающего себя, образовывающего себя самого. И потому вновь становящейся, сызнова переживаемой, хотя и прожитой, историей.
Я сказал: «образовывающего самого себя…» И тем, что сказал, пригласил собеседника почувствовать важнейшую из проблем образования как всеземной перспективной задачи, перед которой стоит человек конца XX века — растерянно стоит в круге информационного безграничья. Как ему быть? Сделать свое образование еще более высшим, научившись упаковывать нынешние и предстоящие знания в мини-мини-упаковки? Или же начать образовывать себя как личность, одухотворенную живой памятью истории? — Преодолеть естественную дихотомию образования и воспитания… (Может быть, это удастся Коменскому? Посмотрим…)
Образование — образовать самого себя. Слово образ упрятано в клишированный термин, но сокрытое есть начало образования-воспитания для образа и посредством образа. И здесь без истории, в том числе и той, которая только что рассказана, не прожить. Именно она восстановит не только распавшуюся связь времен, но и связь вещей — вперекор дисплейно-компьютерной аннигиляции вещей мира в их подробной шершавости, многоцветности и оглашенности. Вперекор, но не отменяя и ее, электронную Книгу Мира. И вместе с ней и «сущностное» мышление. Таким вот образом… Ретроспектива может стать перспективой. (Об этом и многом другом, хоть и в более архаическом варианте — все-таки лет двадцать тому, — можно прочитать в моей книге «Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух», увидевшей свет в 1991 году в Москве.)[234]
Куда же поместить мастер-класс Коменского? Ясно, что между все еще по-варварски боголюбивым восьмым веком и все еще естественнонаучным двадцатым. Поместили? А теперь продолжим эксперимент — в той же матрице, с теми же, так сказать, экзаменационными билетами.
Итак: — Что такое язык? — «Древние писали на навощенных дощечках медной палочкой, заостренным концом которой… (Здесь и далее с купюрами. — В. Р.) Мы пользуемся гусиным пером, ствол которого… Погружаем расщеп пера в чернильницу, которая…» И тому подобное. «Грамматика занимается буквами, из которых она составляет слова и учит правильно их произносить, писать, образовывать…» И опять-таки т. п. — Что такое воздух — «Ветерок веет… Ветер дует… Буря валит…» И т. п. — Что такое жизнь? — «Человек бывает сначала младенцем, мальчиком [девочкой], отроком [девушкой]… мужем [женщиной], стариком [старухой]… Больной приглашает врача…
Душа есть жизнь тела… Придет последний день, который звуком трубы пробудит мертвецов… и живых призовет к суду…» — Что такое смерть? — «Покойников когда-то сжигали… Мы кладем наших покойников в гроб… Поются гимны и звонят в колокола… Воров вешает на виселице палач. Прелюбодеев обезглавливают. Убийц… подвергают колесованию… Предателей родины разрывают на части четырехконной упряжкой». — Что такое человек? — «Адам, первый человек, был сотворен в шестой день творения Богом по подобию Бога из глыбы земли; Ева же, первая женщина, была создана из… Люди созданы для взаимной пользы, поэтому они должны быть человечны… Будь приятен и ласков лицом… Угрюмые люди всем неприятны…» И тому подобное.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Алхимия"
Книги похожие на "Алхимия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Рабинович - Алхимия"
Отзывы читателей о книге "Алхимия", комментарии и мнения людей о произведении.