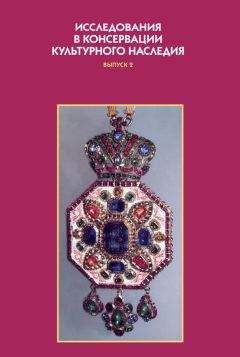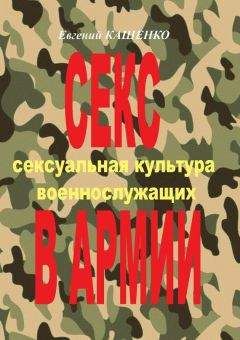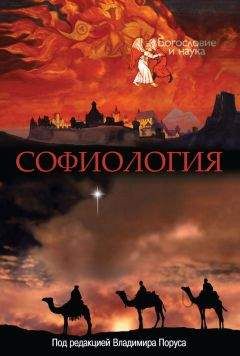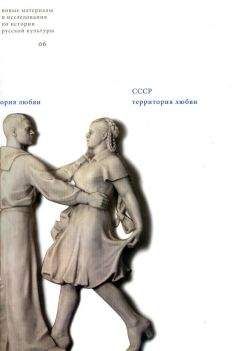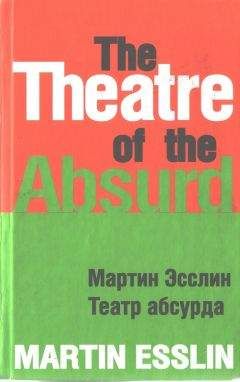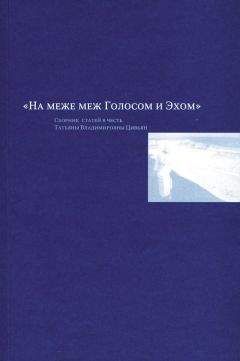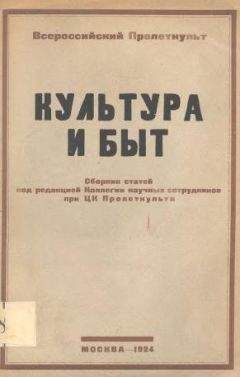Ольга Буренина - Абсурд и вокруг: сборник статей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Абсурд и вокруг: сборник статей"
Описание и краткое содержание "Абсурд и вокруг: сборник статей" читать бесплатно онлайн.
Содержание сборника отражает программу международной конференции «Абсурд и славянская культура XX в», которая состоялась в октябре 2001 г в Цюрихском университете, объединив представителей самых разных научных дисциплин. Одна из главных задач сборника — на фоне современного теоретического дискурса об абсурде описать феномен абсурда (мировоззренческий, логический, художественный) в культуре XX в., показать его междискурсивный и межкультурный характер. В связи с этим выбранное нами название «Абсурд и вокруг» — в некоторой степени и полемическая отсылка к коллективному труду «Around the Absurd: Essays on Modem and Postmodern Drama», авторы и составители которого ограничивали понимание абсурда лишь сферой театрального искусства.
Сборник рассчитан на специалистов по литературоведению, философии, искусствоведению и теории культуры, а также на более широкий круг читателей, интересующихся вопросами абсурда в культуре.
Но тут начинается уже настоящий бред. На особый статус урюка в данном списке вроде бы указывает реплика Грачева, но сообщение о политической независимости урюков только усиливает недоразумение. Голос разума же, прозвучавший в реплике Коржакова (не случайно он, как тогдашний советник президента по вопросам безопасности, единственная подчиненная фигура) и прояснивший настоящее значение этого слова, только усугубляет неразбериху, вовлекая в общую гонку ни в чем не повинные абрикосы: они включаются теперь в стереотип кавказца, который только притворяется, будто ведет традиционную бедную жизнь простого крестьянина, тогда как на самом деле он владелец иномарки[352] и, главное, всякого оружия, с помощью которого надеется достигнуть своих сепаратистских целей. Выходит, что мирное название «абрикос» — это лишь маска, под которой скрывается опасный бандит-урюк, внушающий сильнейшее недоверие.
Таким образом, определение урюка посредством гиперонима, с одной стороны, обнажает абсурд предыдущего перечня, с другой же, оно активизирует новый, третий скрипт (стереотип «лицо кавказской национальности»), притяжательная сила которого столь велика, что ей поддается и родовое европейское наименование фрукта. Иначе говоря, словарное определение приводит лишь к расширению абсурда, переходящего в смех. Одновременно добавляется еще одна мишень для насмешки: малограмотность президента усиливается наличием у его министра обороны самых грубых предрассудков, напоминающих о параноическом духе сталинских времен.
Итак, наш маленький обзор подтвердил, что следует различать три степени развития смеха: обычная бессмыслица — сознательно организованная бессмыслица, т. е. абсурд, — комизм. Остается выяснить, является ли такая последовательность обязательной. Если поставить вопрос ребром, то необходимым и достаточным условием для возникновения комизма должно быть существование какой-то подготовительной, абсурдной фазы, именно преддверия, через которое мы проходим, прежде чем переступить порог смеха. Ответ на такой вопрос может быть только отрицательным. Прежде всего, легко найти примеры, где пуанта порождается иначе, чем через построение абсурдного сочетания референтов или фактов, ср.:
(9) В купе один из пассажиров разглагольствует:
— Первый слог моей фамилии — то, что большевики обещали построить, а второй — то, что они нам дали на самом деле.
— Пройдемте, гражданин Райхер, — произнес собесед ник, показывая красную книжечку…[353]
Структура этой шутки вполне прозрачна: один пассажир задает другим лингвистическую загадку, построенную по принципу (неточной) антонимии. Ответ формулирует самый неожиданный кандидат, а именно гебист. Наряду с этим неожиданным поворотом и полуматерным словом, которые уже вызывают смех, нам представляется случай высмеивать три различные жертвы: политический строй, который характеризуется ничтожным разрывом между фикцией и реальностью, наивного, слишком доверчивого пассажира, попавшего в ловушку, но и гебиста, которому ведь не положено знать такую антисоветчину. Таким образом, забавного здесь хоть отбавляй, но абсурдом все равно не пахнет: загадка откладывает то, что могло бы звучать абсурдно, к концу, т. е. к разгадке-пуанте. Следовательно, абсурд не является необходимым преддверием комизма. К такому выводу склоняет и наблюдение, что в отличие от его подвида (шутки) комизм как таковой может быть ненамеренным, например в случае неудачной формулировки, так что промежуточный этап сознательной смехотворной организации бессмыслицы заранее заблокирован.
ЛитератураАлтунян 1999 — А. Г. Алтпунян. От Булгарина до Жириновского: Идейно-стилистический анализ политических текстов. М., 1999.
Киклевич 2000 — А. К. Киклевич (сост. и ред.). Лингвисты шутят. Мюнхен, 2000.
Раздуваев 2002 — В. В. Раздуваев. Политический смех в современной России. М., 2002.
Санников 1999 — В. 3. Санников. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
Шмелева 2003 — Е. Я. Шмелева. Речевой портрет «нового русского» как героя анекдота и литературного персонажа // Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация / Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2003.
Штурман 1987 — Д. Штурман (ред.). Советский Союз в зеркале политического анекдота. Иерусалим, 1993.
Buttler 1968 — D. Buttler. Polski dowcip językowy. Warszawa, 1968.
Minsky 1984 — M. Minsky. Jokes and the logic of the cognitive unconscious // L. Vaina, J. Hintikka (eds). Cognitive Constraints on Communication. Dordrecht, 1984. P. 175–200; [рус. пер.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. М., 1984. С. 281–309].
Norrick 1984 — N. R. Norrick. Stock conversational witticisms //Journal of Pragmatics, 8.1984. P. 195–209.
Norrick 1986 — N. R. Norrick. A frame-theoretical analysis of verbal humor: Bisociation as scheme conflict // Semiotica, 60 / 3–4.1986. P. 225–245.
Raskin 1985 — V. Raskin. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht; Boston; Lancaster, 1985.
Szczerbowski 1994 — T. Szczerbowski. О grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiqtych. Kraków, 1994.
Наталья Фатеева (Москва)
Абсурд и грамматика художественного текста
(на материале произведений Н. Искренно, В. Нарбиковой, Т. Толстой)
Пустота уже не за словами, а в них самих.
М. Эпштейн. Постмодерн в РоссииТермин «грамматика» понимается в нашем исследовании расширительно и включает в себя все уровни языка, начиная с фонетико-графического и кончая уровнем грамматики текста. Наша задача — показать, как благодаря особой организации собственно языковых знаков и категорий создается абсурдная модель мира. В литературе постмодернизма эти элементы функционируют одновременно и на уровне текста, и на уровне метатекста, тем самым раскрывая свой собственный интерпретационный механизм. Языковая игра лингвистическими явлениями и категориями приводит к расщеплению их значения, и они нередко начинают выполнять роль своеобразных «эвфемизмов» по отношению к эротическому и физиологическому пласту текста. Причем у Нарбиковой акцентируется именно «грамотная» или «неграмотная» оформленность искаженного цивилизацией мира: чаще всего дисгармония возникает путем присвоения объектам мира свойств элементов, которые не подчиняются «грамматике»: «(…) пьяный был неграмотно оформлен. Лужа с поднимающимися алкогольными испарениями была неграмотно оформлена» (III: 35), обществен-18 — 4005 ные же туалеты, наоборот, у нее «грамотно оформлены, конечно, гением» (III: 81).
Стремление выявить истоки двоемыслия через доведенный до абсурда язык у исследуемых авторов и есть то новое, что можно ждать сейчас от литературы. Данное положение наглядно развертывается у В. Нарбиковой: «И он сказал, что фраза полностью себе соответствует и ничего такого не обозначает. И ей стало ясно, что она обозначает такое» (III. 60). И мы видим, что на деле основной смысл высказывания здесь выражается лишь неопределенно-указательными местоимениями, самих же «имен», т. е. полнозначных «слов», в тексте нет. Поэтому и вспомогательная реплика — «не то слово» — становится у Нарбиковой текстопорождающей. К примеру, люди, которые ловят рыбу, в романе «Шепот шума», говорят так:
— Гыр — гыр — гыр — буек.
— Гыр — гыр — гыр — зажигалка.
— Гыр — гыр — дискотека.
В их языке не нашлось слов для буйка, зажигалки и дискотеки, потому что язык, на котором они говорят, — старый, а эти слова — новые. Даже не юные, и не молодые, и не молоденькие, а — новенькие. Эти слова даже не успеют состариться, так как умрут новенькими (III: 230).
Общая композиционная схема всех анализируемых нами текстов [354] может быть представлена в виде: распад —→ бессознательная попытка синтеза → еще более полный распад и смерть. Эта схема проецируется и в формальную структуру текста, провоцируя «распад» устойчивых языковых структур. Перечислим основные языковые явления, работающие на экспликацию данной модели.
1. Доминирующая установка на воссоздание «неписьменной» речи в анализируемых нами текстах приводит к тому, что: Во-первых, теряют свою силу орфографические и орфоэпические правила, и ключевые слова записываются в произвольной форме. Этот момент особенно обыгрывается в романе Т. Толстой «Кысь», где смещенная буквенная запись слов энтелегенция, фелософия, опеверстецкое образование, тродиция, мораль, ринисанс и др. провоцирует смещение и их понимания, несмотря на то, что по мере развертывания текста якобы восстанавливается кириллический алфавит и каждая глава названа полным именем буквы (что, в свою очередь, становится предметом языковой игры в тексте: «наука всякой букве научное название дает: „люди“, а то „живете“, а то „червь“» (VI: 25)). У Нарбиковой же из слов либо нарочито выпадают буквы: «На автобусной остановке стояли, тояли, ояли, яли, ли и замерзли» (III: 18), либо они удваиваются, что также имеет определенное, внутренне мотивированное, задание: «Он подходил к телефону и тупо набирал номер Ирриной тогда уж матерри» (III: 28).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Абсурд и вокруг: сборник статей"
Книги похожие на "Абсурд и вокруг: сборник статей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Буренина - Абсурд и вокруг: сборник статей"
Отзывы читателей о книге "Абсурд и вокруг: сборник статей", комментарии и мнения людей о произведении.