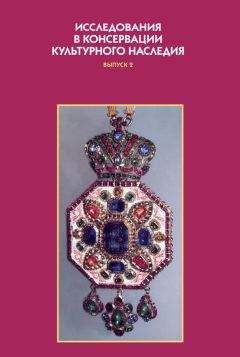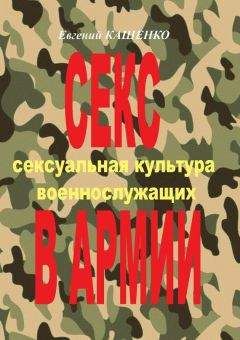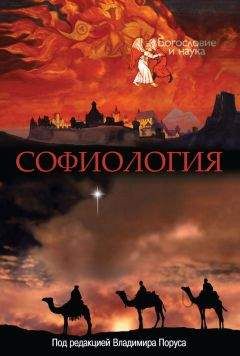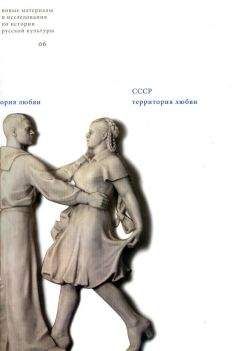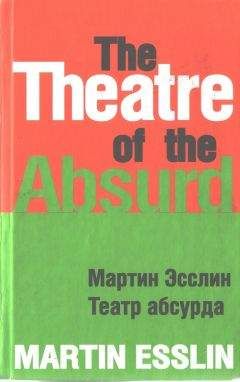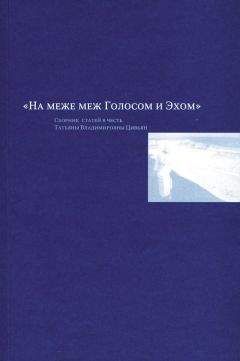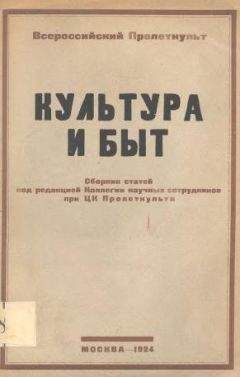Ольга Буренина - Абсурд и вокруг: сборник статей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Абсурд и вокруг: сборник статей"
Описание и краткое содержание "Абсурд и вокруг: сборник статей" читать бесплатно онлайн.
Содержание сборника отражает программу международной конференции «Абсурд и славянская культура XX в», которая состоялась в октябре 2001 г в Цюрихском университете, объединив представителей самых разных научных дисциплин. Одна из главных задач сборника — на фоне современного теоретического дискурса об абсурде описать феномен абсурда (мировоззренческий, логический, художественный) в культуре XX в., показать его междискурсивный и межкультурный характер. В связи с этим выбранное нами название «Абсурд и вокруг» — в некоторой степени и полемическая отсылка к коллективному труду «Around the Absurd: Essays on Modem and Postmodern Drama», авторы и составители которого ограничивали понимание абсурда лишь сферой театрального искусства.
Сборник рассчитан на специалистов по литературоведению, философии, искусствоведению и теории культуры, а также на более широкий круг читателей, интересующихся вопросами абсурда в культуре.
Во-вторых, большую роль начинают играть междометия и звукоподражательные слова, лишь выражающие чувства и эмоции, не называя их. Ср. у Нарбиковой: «Это был маразм. Это было такое, когда все „бо-бо“, даже животик бобо» (III: 25). У Толстой же междометное слово Кысь даже становится заглавием текста и поэтому имеет неопределенную референцию (на самом деле оно является источником нервных болезней)[355]. Нарбикова дает междометному выражению следующую интерпретацию: «До того, как сначала было слово, сначала было междометие — „краткое изъявление движений духа“ (…) Интонация крика, по ней мы судим о состоянии стихии» (III: 117). Реально же в вербальных знаках разрушается связь между означающим и означаемым, что сигнализирует о «болезни самого языка».
2. Вследствие расщепления структуры знаков, с одной стороны, задается внутренняя форма новых слов, уподобляемая мутации (так, пуденциалу Толстой возводится к словам потенциал и уд, а кысь паронимически связывается со словами искусство, ксерокс и факс, которые позволяют «плодиться и размножать ся»), с другой — теряется принятая условность и уникальность называния, и имена собственные становятся нарицательными (идол пушкин в романе «Кысь» «долбится» из дубельта, браме превращается в междометие, шопенгауэр — в название жанра «вроде рассказа, только ни хрена не разберешь», скульптура Давид воспринимается как глагол давит). У Нарбиковой называние включает в себя частицу условно-предположительного сравнения — «как бы мужчина, как бы „перефраз“», — так, пишет она, из предметов «извлекаем их сущность, оставляя другим их названия»; имена же собственные, наоборот, получают дополнительную мотивацию. Ср. самое начало повести «План первого лица. И второго»:
— Это иррационально.
— Но меня зовут Ирра.
— Вас зовут с двумя «р»?
— Меня зовут Ирра.
— «Иррационально» я бы написал с большой буквы в вашу честь (III: 9)
— это слова героя по фамилии Додостоевский, по своей внутренней структуре изоморфной в тексте прилагательному доисторический.
Используя словообразовательный каламбур, можно сказать, что путем подобного переразложения слов и создания новых в них акцентируется «БЕС-сознательное», поэтому и собрание сочинений маркиза де Сада в «предоргазменную секунду» буквально разрастается в произведениях писательницы до «120 дней Содома»[356] (III: 24). Расщепление же слов приводит к тому, что и сам поэту Нарбиковой «троится»: он «поэт отец», «поэт сын» и «поэт святой дух» одновременно, при этом глагол троить производится и от словосочетания соображать на троих, и жить втроем, (имеются в виду Ирра, Додостоевский и Тоестьлстой — к анализу имен последних мы обратимся чуть позже). Это возможно в данных текстах потому, что «иррациональность», с которой они начинаются и которой кончаются, как пишет М. Эпштейн, «не требует никакой конкретизации, она есть „иррациональность как таковая“, „абсурдность всего“, „всеобщий абсурд“, который именно своим тошнотворным безразличием к конкретным вещам выдает свою крайнюю всеобщность»[357].
В связи со смещением иерархий теряет свою конкретность и понятие «исключения», «нарушения языкового правила», весь смысл сводится к выделению из ряда «исключений». Так, у Нарбиковой имя Чящяжышын все составлено из нарушений «исключений», а «пластмасса, поскольку является „творением человека, а не его“», атрибутируется как «несеребряная и незолотая, она была искусственная, она была не оловянной, не деревянной, она была именно стеклянной, потому что стекло было тоже творением не его. В общем, она разбила стекло» (III: 36).
3. Основным семантическим преобразованием становится синекдоха как способ выделения дифференциальных признаков при расщепленном сознании. Так, «отрезанное ухо искусства» у Нарбиковой[358] и уродство «ушей видимо-невидимо» у Толстой становятся первыми симптомами «последствия» взрыва и «болезни» культуры. В результате оказывается, что ухо нужно отнюдь не для «вслушивания», а для подслушивания: «Аушей у него (Васюка Ушастого) видимо-невидимо: и на голове, и под головой, и на коленках, и под коленками, и в валенках — уши. (…) А главные-то уши, которыми он подслушивает, под мышками растут» (VI: 39). Нельзя не отметить, что место «под мышками» выбрано не случайно, так как слово «мышь» — ключевое и цитатное (Жизни мышья беготня) в романе «Кысь» и в обмен на него можно купить книги. У «незримой кыси» тоже «невидимые уши», которые она прижимает к «невидимой голове».
4. Происходит акцентуация категории рода, которая приобретает функцию сексуализации. У Нарбиковой «язык» является «как бы материализацией перехода пола» (III: 90), а именно: «кофе (если с молоком, то было, если без молока, то был)» (III: 25). У Толстой слова кысъ, мышь, жизнь, ржавь, клель, марь, мараль, бабель создают целую парадигму женского рода, в которой конь становится подобным мыши. Однако нередко у Нарбиковой доминирует бесполое: «За окном была бесполая луна, и кончал бесполый дождь» (ПГ. 90), или разговор ведется о «гермафродитизме», воплощенном в среднем роде: «Русское гермафродитное солнце надолго засело за русским андрогинным морем» (III: 91)), либо она играет с родом в «мужскую» сторону: «вместо крыши — низкое небо, потому что, осен» (Ш: 115).
5. В центре текста оказываются «глаголы», чтобы «наслаждаться их действием» (В. Нарбикова); причем бессмысленные действия подаются как «осмысленные». Ср.:
Само по себе действие было сладким, значит, оно было качественным прилагательным, потому что могло быть еще слаще. Они действовали точно по грамматике Ломоносова: имя, глагол, междометие; имя для названия вещей, глагол для названия деяний, междометие для краткого изъявления движения духа. Спали стоя, как некоторые животные (…) (III:97).
Правда, иногда и самому автору, и героям трудно подобрать «глагол»:
(…) и никак нельзя было подобрать глагола: они на кухне не сидят, а что? Посредине стола стоял хлеб и бутылка с недопитым пивом. Вместо аккорда в сороковой симфонии Моцарта раздался гудок автомобиля. Примером развернутой секунды могло служить собрание сочинений маркиза де Сада (III:24).
Что же касается характеристик действия, то одни глагольные категории, например переходность, расширяют свою сферу функционирования (сочинить шопенгауэр у Толстой [359]; Мы спим кровать; Мы сидим стулу Нарбиковой), в других случаях идет игра на несимметричности проявления категории, например, залога, как это наблюдаем у Нарбиковой: «Чящяжышын хочет писать стихи, стихи не хотят писать его». Возможно появление у авторов и особой приверженности к определенной категории. Так, в романе «Кысь» Толстой повествование от второго лица словно продолжает пушкинские строки «Жизни мышья беготня, Что тревожишь ты меня?», создавая «шипящую» основу текста. Понятие же «лица» у Нарбиковой соотносится с понятием «плана» уже в заглавии: «План первого лица. И второго». Но, по определению автора, «первый план — это не норма. Его нормальное состояние именно в его ненормальности» (III: 39).
6. Благодаря подобной «ненормальности» возрастает роль служебных языковых элементов (предлогов, союзов, частиц) и местоимений с неопределенной и оценочной семантикой, ясной только в узком контексте (эти формы часто выполняют функцию коммуникативов). В повести «План первого лица. И второго» Нарбиковой такие элементы приобретают даже статус имен собственных: Тоестьлстой (или сокращенно Т. е.) выполняет роль «связующего элемента», а в имени Додо (Додостоевский) делается активной приставка-нота «до»; одновременно идет игра на называниях лиц и определенных частей тела местоимениями кто, никто, то-то, не то-не то[360]. Мотивировка же имени Тоестьлстой такова: «то есть в принципе мужчина» (227: 55). Таким образом, все герои становятся не более чем «материализацией» творческого метода Нарбиковой:
(…) бывает попадается на улице и в обществе герой какого-нибудь писателя, который к тому же занимается творчеством своего писателя, и тогда думаешь: «Ничего себе, материализовался» (III: 53).
Писательница даже иногда прямо постулирует, что героем ее романов является «Я — Язык»:
(…) не произнося ни слова, не понимая ни слова, ты бежишь из «Ты» в — «Я», совершая необычайное путешествие из второго в первое лицо (IV: 5).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Абсурд и вокруг: сборник статей"
Книги похожие на "Абсурд и вокруг: сборник статей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Буренина - Абсурд и вокруг: сборник статей"
Отзывы читателей о книге "Абсурд и вокруг: сборник статей", комментарии и мнения людей о произведении.