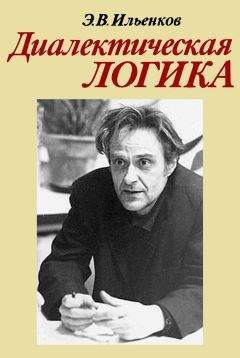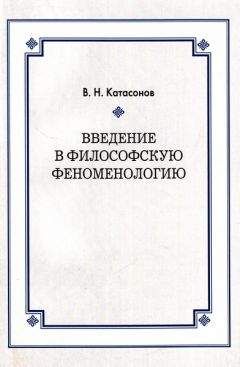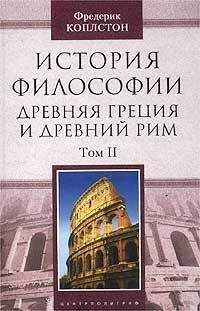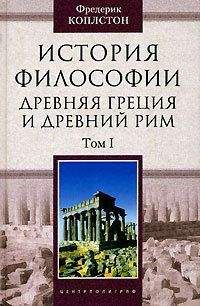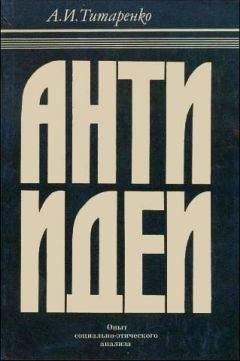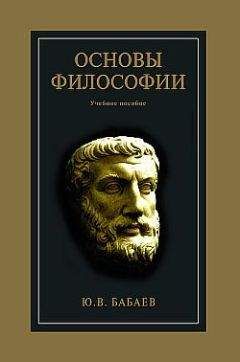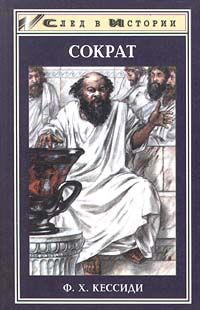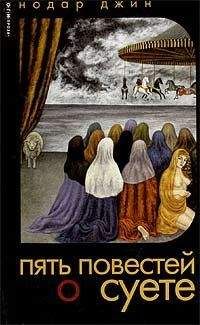Юрий Давыдов - Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии.
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии."
Описание и краткое содержание "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии." читать бесплатно онлайн.
Книга доктора философских наук Ю. Н. Давыдова посвящена проблемам нравственной философии: страх смерти и смысл жизни, этический идеал и нигилизм, преступление и раскаяние и т. д. В книге рассматривается традиция этической мысли, восходящая к литературному творчеству Л. Толстого и Ф. Достоевского. Нравственная философия русских писателей противопоставляется аморализму Ницше и современных ницшеанцев, включая таких философов, как Сартр и Камю.
Книга рассчитана на молодого читателя.
Рецензенты: академик М. Б. Митин; доктор философских наук, профессор В. А. Карпушин; доктор философских наук, профессор И. К. Пантин.
© Издательство «Молодая гвардия», 1982 г.
М.: Мол. гвардия, 1982. — 287 с, ил. В пер.: 75 к., 50 000 экз.
«Семья…» — говорил я себе; но семья — жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, — всякий шаг в познании ведет к этой истине. А истина — смерть» [3].
«Искусство, поэзия?..» — Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это — дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все — и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидел, что и это — обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других?» [4]
Мы еще вернемся специально к вопросу о том, каким образом Лев Толстой преодолел этот свой кризис, подвергнув убедительной критике и решительно отвергнув, самые глубокие предпосылки шопенгауэровской философии — той самой, что была для русского писателя не только способом мировоззренческого осознания этого опаснейшего кризиса, но и своеобразной формой его усугубления, вирусом, обострявшим болезнь, загоняя ее все дальше в глубь организма — в глубь сознания, в глубь заболевшей души. Пока же толстовская «Исповедь» важна для нас как ярчайшее свидетельство того, как тот самый кризис, симптомом и ферментом которого была шопенгауэровская философская конструкция, должен был переживаться — и действительно переживался — людьми, чуткими к восприятию практически жизненных «кореллятов» абстрактных и отвлеченных философем.
Как видим, кошмарное ощущение того, что «я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение» [5], не способствует ни укреплению нравственного самосознания человека, ни активизации культурно-творческой деятельности. Наоборот, змеиный взор этого многоголового чудовища обладает способностью парализовать нравственное сознание и творческую волю индивида.
Единственное, к чему остается способным человек, загипнотизированный неотступно преследующим его кошмарным видением смерти, — это способность к разоблачительству: выворачиванию наизнанку, ерническому сведению к низшему и примитивному, глумливому сбрасыванию с пьедестала всего, чему он когда-либо поклонялся, что он когда-либо принимал за нечто высшее. Речь идет о своеобразной «игре в ничто», заключающейся в сбрасывании в бездну Небытия всех истинно человеческих определений. Созерцая, как они исчезают там, индивид, загипнотизированный «драконом смерти», испытывает нечто вроде облегчения («Все там будем!..»), впрочем, облегчения временного и иллюзорного.
Любопытно, что этот вариант, который приняли как «модус» своего существования довольно многие из последователей Шопенгауэра на Западе, не представлялся Толстому заслуживающим сколько-нибудь серьезного внимания, когда он напряженно и мучительно размышлял о возможных путях «выхода» из своей кризисной духовной ситуации.
«Я нашел… — вспоминает впоследствии писатель свои душевные метания кризисной поры, — что… есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.
Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица…
Второй выход — это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть…
Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее…
Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может» [6].
Первые сомнения Толстого
Лев Толстой искренне признается, что больше всего ему импонировал третий выход — «выход силы и энергии», то есть самоубийство, однако что-то мешало ему покончить с собой. Причем этим «что-то» не было, по мнению писателя, ни бессмысленное желание жить (как раз ощущение бессмысленности жизни, коль скоро оно было осознано, — оно-то соблазняло его к самоубийству), ни страх смерти: последний опять-таки скорее побуждал покончить счеты с жизнью, чтобы скорее прервать, прекратить ее — по принципу: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Этим «что-то» было ощущение какой-то внутренней порочности, нравственной ущербности владевшего им умонастроения. «Теперь я вижу, — констатирует автор «Исповеди», — что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моих мыслей и мыслей мудрых (Толстой обычно упоминает в аналогичной связи прежде всего Шопенгауэра, а затем Соломона, Будду и т. д. — Ю. Д.), приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения» [7].
Само же это ощущение, в свою очередь, черпало свои силы — даже перед лицом «предельной ситуации» отчаяния, владевшего Толстым, — из не пересохшего еще живительного источника — непосредственного, не разъединенного скептической рефлексией, нравственного чувства народа — с его глубочайшей убежденностью в том, что «худо быть человеку едину», и, стало быть, решения, принимаемые человеком так, как если бы он был совсем один на свете, — это всегда неистинные, безнравственные решения. Именно та нравственно-духовная атмосфера России второй половины XIX века, которую вульгарная социология, замешенная на плоском «технологическом прогрессизме», так спешит списать за счет российской «культурной отсталости», как раз и оказалась причиной того, что Лев Толстой, заболевший модной в те годы на Западе «болезнью смерти», не погиб от нее, не сошел с ума и не утратил своих творческих сил. Хотя, как мы сможем убедиться далее, для многих, далеко не бесталанных представителей западной культуры «заболевание смертью» сопровождалось трагическим исходом: вспомним хотя бы Фридриха Ницше, у которого эта болезнь явно была и симптомом и ферментом тяжкого душевного недуга, закончившегося полным помрачением ума.
В Западной Европе, где с каждым годом углублялся бурный и всеохватывающий процесс формализации и рационализации, овеществления и отчуждения всех человеческих отношений к природе, людей друг к другу, наконец, каждого к себе самому, уже почти не осталось ничего, что могло бы удержать интеллектуала, «человека культуры», от погружения на самое дно кризиса: «заболевания» смертью, которая, превращаясь в навязчивую идею, выжигает в душе индивида все, что могло бы питать его веру в осмысленность жизни, да и его собственного существования. Неумолимый процесс взаимного обособления людей друг от друга — усугубляющейся «атомизации» общества, где явно господствовала тенденция превратить его в бессмысленный конгломерат абсолютно чуждых друг другу «эгоистов», — не только не давал заболевшему никакой опоры в борьбе против своего тяжкого недуга, но, наоборот, укреплял именно болезнетворные душевно-духовные импульсы: все то, что усиливало болезнь, превращая ее в хроническую или ведя к отмиранию всех человеческих свойств души.
Вот почему в такой атмосфере интеллектуал, заболевший «болезнью смерти», не находил в себе душевных сил, дающих возможность противостоять коварной логике этого недуга, навязывающей совершенно особое отношение ко всему окружающему, а главное — к самому этому недугу. Вот почему здесь заболевшему ничего не оставалось, как перебирать, примеривая их к самому себе, те самые варианты «выхода» из ситуации «бытия перед лицом смерти», которые автор «Исповеди» осознал в конце концов как ложные и заводящие в безысходный тупик.
Героизм отчаяния, абсурдное бытие и воинствующий гедонизм
Психопатология неоднократно наталкивалась на один и тот же весьма знаменательный факт. Пока у больного, страдающего каким-нибудь тяжким телесным недугом, еще есть надежда на излечение, его очень часто навещают тревоги по поводу возможной неизлечимости заболевания. Как только до его сознания каким-то образом доходит, что его болезнь действительно, в самом деле неизлечима и он уже явно обречен, больной вдруг забывает о всех своих прежних страхах, обнаруживая даже склонность посмеиваться над ними. Он начинает воспринимать симптомы, неопровержимо свидетельствующие о том, что приближается летальный исход, как признаки начинающегося выздоровления. Нечто аналогичное можно наблюдать на примере философской авантюры одного из самых выдающихся учеников Шопенгауэра, далеко превзошедшего учителя остротой и яркостью своего дарования, — базельского мыслителя Ницше. Дело в том, что он воспринял как якорь спасения, как выход из кризиса, как способ излечения европейского человечества именно те моменты шопенгауэровской философии, которые сами являли собой наиболее очевидные признаки его начинающегося заболевания, были важнейшими составляющими болезненного синдрома западноевропейской культуры. Шопенгауэровская «метафизика ужаса» показалась автору «Рождения трагедии из духа музыки» тем великим открытием — обретением абсолютно достоверной истины, опираясь на которое можно будет наконец вернуть европейскую культуру к ее здоровым истокам.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии."
Книги похожие на "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Давыдов - Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии."
Отзывы читателей о книге "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии.", комментарии и мнения людей о произведении.