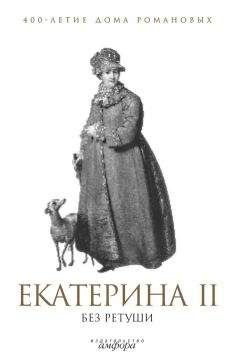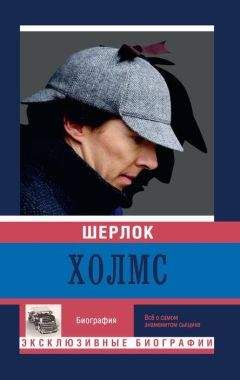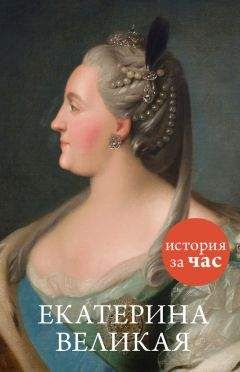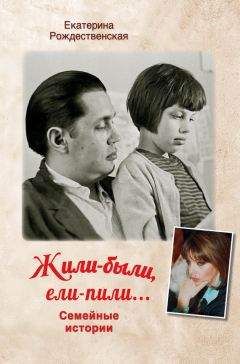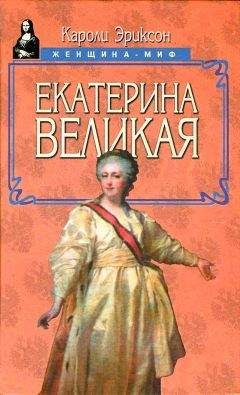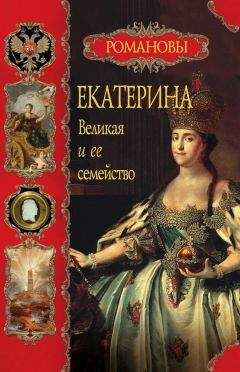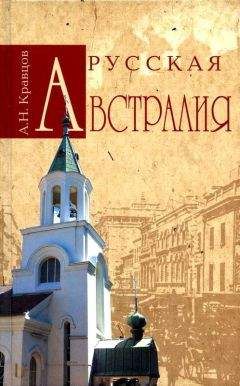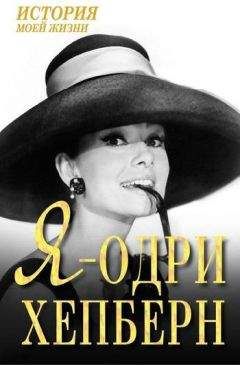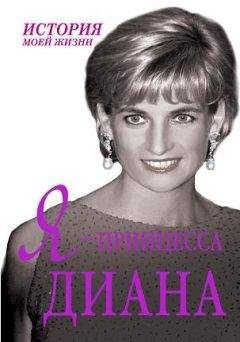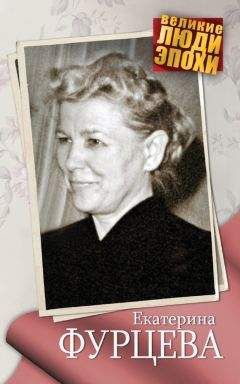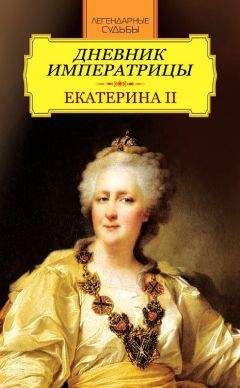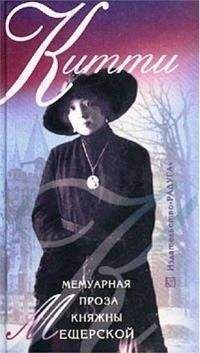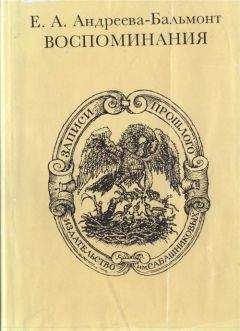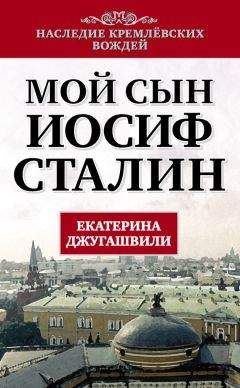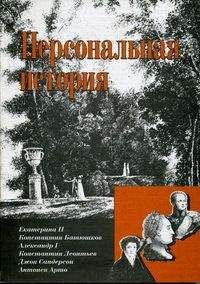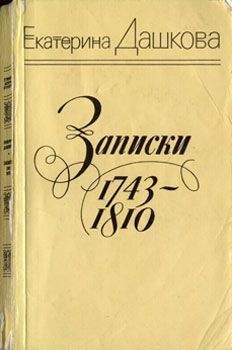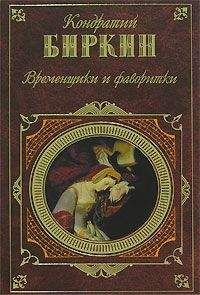Екатерина Домбровская-Кожухова - Воздыхание окованных. Русская сага
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воздыхание окованных. Русская сага"
Описание и краткое содержание "Воздыхание окованных. Русская сага" читать бесплатно онлайн.
* * *
…Подходило к концу лето 1884 года и вместе с ним и Успенский пост. Потянулись на юг над полями ореховскими треугольники журавлей, косяки перелетных птиц… А в Орехове готовились встретить Крестный ход, который всегда по традиции — в память о чудесном избавлении Орехова от холеры, совершали в последнюю среду Успенского поста — «Успенскую среду». Ход двигался от Глуховского храма к Орехову, с частыми остановками и молебнами. Служили молебны и в Орехове (целых пять!) после чего отцу Павлу и причту подавался завтрак.
Готовились встретить крестный ход с вечера. Распоряжалась Анна Николаевна — ведь она была молитвенным столпом семьи. Переставлялись в зале стулья к окнам и простенкам, застилались они вышитыми старинными полотенцами, чтобы на них ставить образа. Верочка украшала стулья цветами, плющом и рябиной — зала превращалась в подобие храма. Приносили старинную меру, полную семенами ржи, приготовленными к севу. В рожь обычно ставили выносной крест, чтобы освятить первые горсти посева. Утром за Красные ворота выносили столик, покрытый салфеткой. Выходила Анна Николаевна — ей уж в ту пору было 67 лет, за ней шло все семейство, домашние, гости, исключая повара Евгения, который пек огромный постный пирог к завтраку. Все шли к воротам, где уже гурьбой собирались все деревенские ребятки. На плотину большого пруда «Кубики» (за деревней), в котором поили и купали лошадей — вода там была очень чистая, — выставляли мальчишку глашатаем. Крестный ход проходил мимо Кубиков. Но вот прибегал глашатай: «Идут! Несут!..»… И вот уже все слышали: «Многомилостивый Господи, помилуй нас!».
Служили быстро: иконы несли очень тяжелые, древние, несколько верст, а еще предстояли молебны на углах сада и на деревне. Почти все становились на колени, встречая Крестный ход и святые иконы. Среди них сияла позолоченным окладом древнего письма Казанская икона Божией Матери, которую издавна у нас сугубо чтили как покровительницу нашего рода: когда-то давно еще прапрабабка Веры Егоровны воздвигла в честь этого образа Богоматери храм в Алексинском уезде Тульской губернии, откуда родом была Анна Николаевна, и хранились в памяти рода множество случаев чудесной помощи от этого образа. Потому и молились в особенных случаях именно перед этой иконой Богородицы.
Была так же и древняя икона святого Власия — покровителя земледельцев, письма замечательного, и конечно — икона Анны Николаевны «Господь Вседержитель», перед которой она всегда горячо молилась по утрам и ввечеру. Был список и чудотворной московской святыни — иконы Божией Матери "Взыскание погибших" — не только для меня она имела всегда особое значение, но, как недавно я убедилась по документам, и для бабушки Веры Александровны (старшей дочери супругов Микулиных)…
А спустя еще немного времени, после Успения пресвятой Богородицы и третьего Спаса, который празднуется в память о перенесении из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа (убруса) Господа Иисуса Христа — Спаса «орехового», как его любовно именовали в народе (наступало время сбора орехов), — венчали рабу Божию Веру рабу Божию Александру. И было это, конечно, в Орехове, и сестрица Манечка несла шлейф теперь уже сестрицы-невесты…
…Однако прежде чем мы, веселясь о молодых, которых соединила великая, редкая любовь, поспешим, скача и ликуя, по Ореховскому парку вслед свадебной толпе в этот на редкость жаркий и солнцеликий осенний день, скользя и хрустя яблоками, летящими нам под ноги со всех ореховских яблонь, под благоуханным ливнем лепестков осенних роз и «папашиных георгинов», чтобы потом скорее бежать к большому столу в квадратной аллее родного парка, под «липы вековые», где уже на старинных скатертях-самобранках лежат-отдыхают, ждут-недождутся народа те огромные глянцевые пироги чудо-повара Евгения «на четыре угла», дышущие, пышущие, только из печи, которыми сейчас будет потчеваться не только семья, но и вся деревня, да и кое-кто из Глуховских, по-старинному славя жениха и невесту песнями подблюдными, свадебно-застольными и протяжными, русскими, неизбывными:
Ох, да что лета-алы соколы по вйшению,
Да по зелё-ёоному орешиничику.
Ох-ы, да по зелё-ёному орешеничику…
Ох-ы, да он искал-ы себе лебёдушку.
Ох-ы, да он искал себе лебёдушку,
Ох-ы, да хорошу, ох, лебёдушку.
Ох-ы, да хорошу, ох, лебёдушку,
Ох-ы, да хорошу душу Егоровну…
…Однако прежде чем мы насладимся этими светоносными картинами, нежным румянцем, темными прядями и сияющими счастьем глазами невесты, проникновенной серьезностью сдержанного жениха, обществом добрых Анны Николаевны и Николая Егоровича, прислушаемся к тихой беседе двоюродных сестер, прежде чем на старый парк ниспадут густые тени ранних августовских сумерек, а в деревенских улицах-«порядках» растают последние звуки гулянья, — мы совершим, дорогой читатель, мысленные перелеты во времени — на тридцать, а потом и на сто лет вперед — в совсем другую жизнь, к совсем другим людям, и к другим песням-радостям, — к потомкам тех счастливых молодоженов…
На коллаже работы Екатерины Кожуховой слева-направо: Александр Александрович Микулин (прадед автора), семья Микулиных: Отец — действительный статский советник Александр Федорович Микулин (прапрадед автора), его сыновья (слева-направо) — Дмитрий, Александр, Иосиф, дочь Мария, а над ними — портрет покойной супруги и матери — Екатерины Осиповны Микулиной (урожденной Гортензии де Либан) — прапрабабушки автора, скончавшейся в родах в 1870 году. Фотография сделана около 1880 года.
Справа — Вера Егоровна Микулина (урожденная Жуковская).
…У нашей героини Веры Егоровны не было и тени даже сокровенных претензий на мудрость: вся ее сердечная жизнь была отдана любимому мужу, детям, близким. Она, по типу своему женскому, по сердечному устроению принадлежала к редкому и диковинному теперь, былинному роду тех древнерусских женщин, что и Игорева Ярославна. Уверена, что не случайно, но при этом и совершенно непроизвольно повторила Вера Егоровна знаменитый Ярославнин плач из «Слова о полку Игореве»: «Полечю зегзицею по Дунаю, омочю бебрян рукав в Каяле, утру князю кровавые его раны», в своей притче о ласточке, написанной в те скорбные дни, (или вскоре после них), когда вдали от нее умирал ее любимый супруг, — прадед мой Александр Александрович Микулин.
…Это было весной 1919 года — последней и самой холодной и горькой весной Микулина. Вся его 35-летняя деятельность по охране прав и условий труда рабочих была перечеркнута. Если Царь эту честную, мужественную и нелицеприянную, неудобную для власть имущих (в этом можно ни секунды не сомневаться) деятельность, да еще в предгрозовой атмосфере предельно накаленных полярных интересов наградил Микулина высокими чинами, званиями и орденами, то революция лишила его заработанной пенсии и выкинула на улицу. С превеликим трудом Микулин, с его прекрасным инженерным образованием, знаниями и огромным опытом (он знал изнутри в точности всю картину фабричной жизни чуть ни не во всех губерниях центральной России) едва сумел устроиться в статистический комитет на какую-то жалкую должность, которая давала ему одно преимущество — листок бумаги, который мог помочь ему быть не сразу расстрелянным на путях-дорогах жизни.
Весной 19-го он ездил в Орехово к Вере Егоровне и дочери Екатерине Александровне, оставшейся с двумя малышами: внуку Александра Александровича Кириллу Домбровскому было уже 6 лет, а внучке Майе — всего 3 года. Бабушка моя Екатерина Александровна, взвалила на себя, вернее сказать, мужественно приняла на себя, как Крест, непомерный груз — с небольшого участка земли (от небольшого стада осталась корова и старый Копчик — верная безотказная лошадка) прокормить мать, отца, сестру Веру Александровну, совсем ослабшего от голода семидесятидвухлетнего Николая Егоровича, тем не менее пешком ходившего через всю Москву в университет, чтобы прочитать лекцию двум-трем студентам, его детей — двадцатипятилетнюю хрупкую Леночку, умиравшую от чахотки (ей оставался жить год) и Сережу девятнадцати лет. Кроме того, к Жуковским-Микулиным, а теперь и Домбровским (бабушка Екатерина Александровна с 1912 года носила фамилию мужа) прибилась оставшаяся родня — все кто как мог, пытались добираться к Орехову из охваченных огнем южных и центральных губерний — осиротевший подросток — сын Микулина 2-го, генерал-лейтенанта Иосифа Александровича Микулина, брата Александра Александровича, скончавшегося в 1916 году от тяжких ран на фронте; двоюродная родня — Петровы, и еще какие-то не близкие знакомые бабушкиной сестры Веры Александровны, бежавшие с детьми из польских губерний, и просто осиротевшие дети знакомых…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воздыхание окованных. Русская сага"
Книги похожие на "Воздыхание окованных. Русская сага" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Екатерина Домбровская-Кожухова - Воздыхание окованных. Русская сага"
Отзывы читателей о книге "Воздыхание окованных. Русская сага", комментарии и мнения людей о произведении.