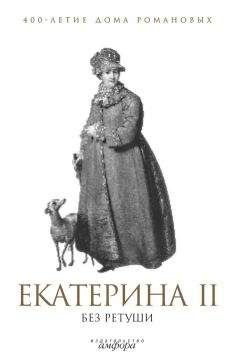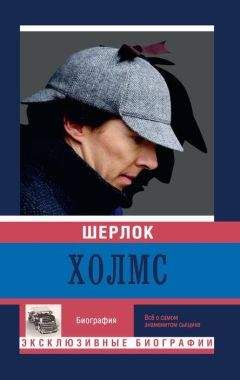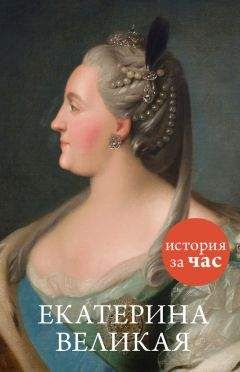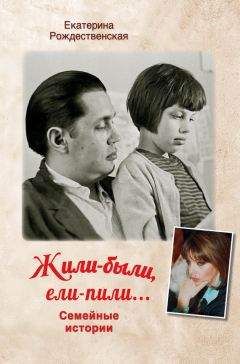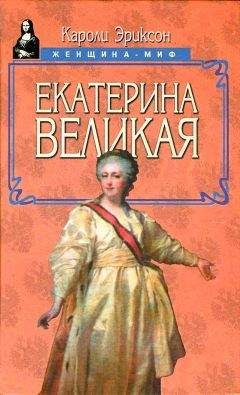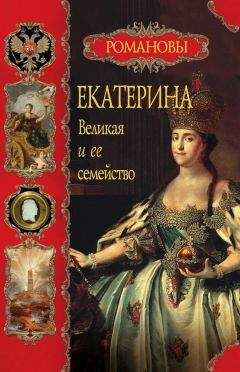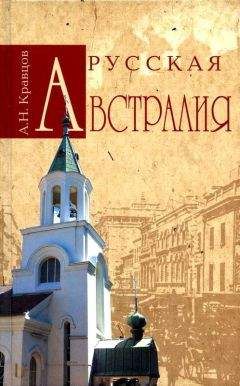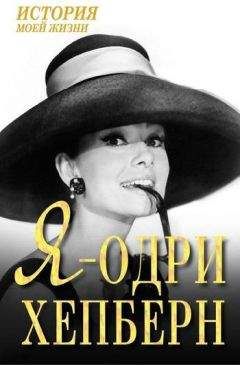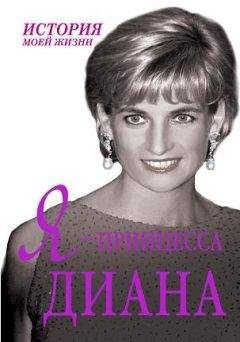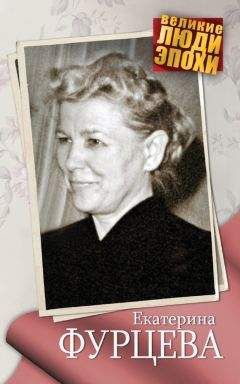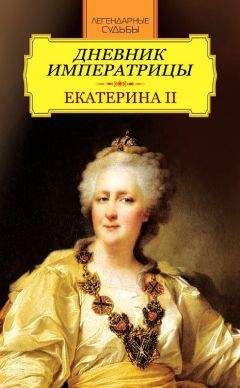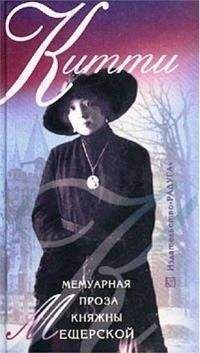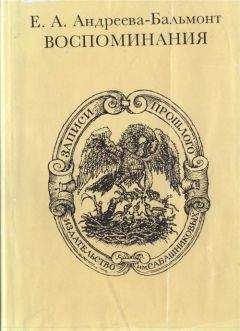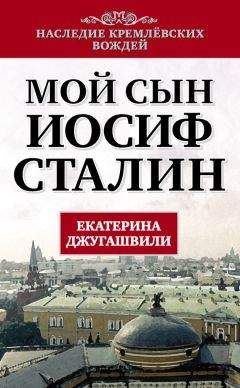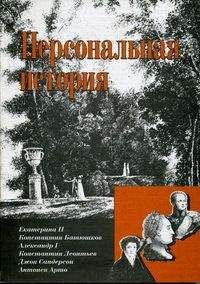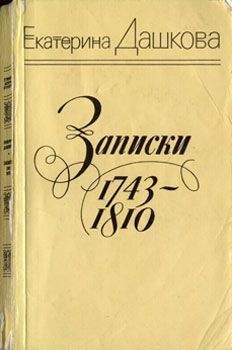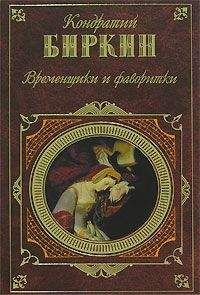Екатерина Домбровская-Кожухова - Воздыхание окованных. Русская сага
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воздыхание окованных. Русская сага"
Описание и краткое содержание "Воздыхание окованных. Русская сага" читать бесплатно онлайн.
Вот где можно было с полным правом представить себе образ Ноева Ковчега — под Ореховским кровом. А «Ноем» назвать бабушку Екатерину Александровну, которая одна изо всех могла и умела пахать, сеять, жать, собирать, молотить (старинным ручным цепом XVIII века невероятной тяжести на молотьбе в одиночку не работали даже крестьяне, а она была одна, лишь изредка кто-то один приходил на помощь), держать огород — ей было тогда 34 года. Позже в анкетах бабушка писала об этом времени: «с 1914 по 1924 работала в поле». Уже тогда от непосильной физической работы она сорвала свое некрепкое сердце и всю оставшуюся жизнь много страдала от этого.
Это была каторжный, истовый труд одного человека ради того, чтобы выжили дети, старики. А помощников у бабушки тогда не было — только мать Вера Егоровна, которая после революции каким-то непонятным образом почти совсем перестала болеть, откуда-то пришли силы. Малышей, деток Кати, она взяла на себя, да и все домашнее ведение хозяйства, прокорм всех, — она тоже трудилась день и ночь, умудрялась собирать какие-то сливки и сбивать немного масла для Жуковского и Леночки, — и Катя возила эту нехитрую деревенскую провизию голодавшим московским родным…
Еще в начале 1917 года Николай Егорович и Александр Александрович передали почти всю принадлежащую им пахотную землю и лес крестьянам Орехова, оставив себе небольшой участок земли и усадьбу при доме. По ходатайству Николая Егоровича ВЦИК РСФСР за его заслуги перед Родиной дал охранную грамоту на дом, усадьбу и участок земли в Орехове, где он родился и вырос и написал большую часть своих научных работ, что не мешало в дальнейшем теснить семью Жуковского и грозить ей расправой, но об этом позже.
Летом 1919 года Николай Егорович приехал в Орехово вместе со своими детьми — Леной и Сережей. Очень обрадовало 73-летнего ученого, что «у Кати хозяйство в полном порядке». Он одобрительно улыбался, видя, как она сама выезжала на косилке косить клевер, или вставала на заре и косила косой траву на лугу в усадьбе. «Вся в отца пошла», — говорил Жуковский. — «Саша всегда сам любил работать в поле».
Благодаря тому, что Вера Егоровна с самого начала революции взяла на себя дом и детей, Екатерина Александровна, дочь ее, не только в совершенстве освоила сельские труды, но и умудрилась за эти годы обрести профессию и кусок хлеба для прокорма всей семьи, — свое любимое дело: овладеть тончайшим искусством реставрации древнерусской живописи — икон и фресок, причем настолько хорошо, что вскоре заняла Екатерина Александровна Домбровская достойное место среди шести лучших реставраторов России, а это были знаменитые мстерские потомственные мастера-старинщики, строго хранившие тайны своего искусства, а также и крупных искусствоведы, как например, учитель бабушки Александр Иванович Анисимов.
Именно в те годы, но уже почти перед войной, у Екатерины Александровны появилось звание, вернее, прозвание: «бабушка русской реставрации» — так величали ее друзья-коллеги в аналог с «отцом русской авиации», которым, как известно, был назван Николай Егорович.
В те-то времена Александр Александрович, служивший теперь в Статистическом управлении и живший в Москве на квартире у дочери Веры, и старался, чем мог помогать своей жене — Вере Егоровне и Кате. Поезда уже почти не ходили, и каждый раз он добирался до Орехова с большими мучениями — на перекладных, с многочасовыми ожиданиями, всегда продрогший, измученный и измокший. Однажды он так сильно простудился, что, вернувшись в Москву, слег с двусторонним воспалением легких…
* * *
Он умирал, и знал об этом, и наказал всем Жуковским не говорить Вере Егоровне о своей болезни до самого последнего, — всю жизнь он ее, болезненную, поистине свято берег. Когда же она узнала о крайне тяжелом состоянии мужа, то сын повез ее из Орехова в Москву, но не сразу к отцу, а сначала к Николаю Егоровичу, и там она еще какие-то дни мучилась и билась как птица в клетке, потому что к мужу ее не пускали: боялись за нее…
Поражает эта трогательная семейная забота друг о друге — ведь какое же нужно иметь сердце, чтобы так беспокоиться и жалеть, так дорожить и беречь друг другом в семье!
«Береженого Бог бережет» — бесконечное число раз слышала я от бабушки эту старинную пословицу (несомненно, она была и нашей семейно-родовой пословицей). Много позже я и эту бабушкину привычку подвергла анализу — мне крайне нужно было все увидеть не с точки зрения личных пристрастий, привязанностей и даже семейных любовей, но только в свете Божиих Заповедей, в свете учения Церкви Христовой, что для меня означает — объективно и непререкаемо.
Обретение настоящей ж и в о й веры (а это уже весьма высокая ступень на пути духовной жизни, потому что приходит живая вера — сердечная — долгим опытом жизни во Христе и, конечно, благодатной помощью Божией) должно естественным образом приучать нас полагаться всегда и всецело на Бога, предавать — и безоговорочно, — свои жизни и жизни близких в Его Руки, в Его волю — «благую, угодную и совершенную» (Рим.12:2), уповать на Его милосердие и заступление. Как поет святая Церковь в Великой ектении «…сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим».
Однако слышалась мне и глубокая правда в этой пословице: если Бог дарует молитву молящемуся, совершенство — подвизающемуся, то и помощь Свою Он сугубо посылает тому, кто и сам старается изо всех сил беречь дары Божии. А разве не великие дары Божии — наши близкие, и вообще все то доброе, необходимое, что мы имеем?
Думаю, что когда-то из такого мирочувствования, из полноты русской душевной ласковости и мягкости (сегодня напрочь утраченной) и родилась эта пословица, а не из недоверия Божией любви и заботе. Да, таким и было по природе русское сердце когда-то в истоках своих, задолго до времен русских революций, которые и свершились-то только потому, что до крайности удалось довести обиду, а потом и одурманивание и озлобление народа, у которого, к сожалению, всегда были веские основания для отчаяния и протеста. Но ужасы и зверства русского бунта отнюдь не могут отменить великого явления русской духовности — протяжной песни, в народе рожденной, исходящей, изливающейся на мир широты и любви сокрушенного сердца; русской речи, с ее ласкательными обращениями: мамонька, девонька, батюшка, матушка, сынок, доченька, сказываемых в том числе и совсем незнакомым людям, о чем писал в свое время Дм. С. Лихачев в своих «Заметках о русском». Потому и любую эпоху русской жизни, и лицо нашего народа в эти разные эпохи нельзя описать одной только жесточайшей исторической правдой Пушкинской «Истории Пугачевского бунта», но нужна и сердечная правда «Капитанской дочки», потому что правда русская — она являет себя только в синтезе, и только в нем она открывает нам свою тайну, суть которой в том, что, если у народа нашего отнять Бога, он превращается в зверя или, если человек по природе своей очень добр и утончен, — он, может, зверем и не становится, но начинает унывать, вянуть и умирать душой. Когда же живет с Богом в сердце и Церковь для него Мать, то, может быть, прекраснее верующего русского человека и во всем мире не найти.
Тогда же главным для России и невысказанным во всей обнаженности правды был вопрос о том, до какого предела можно «починать» душу народа, искушать его веру и терпение, поскольку какой же крепости должна была быть вера в Бога у простого человека, чтобы она могла устоять в страшных обстоятельствах быта, в которых принужден был выживать испокон веку русский пахарь, сохраняя при этом внутреннюю силу для духовного отпора искусительным соблазнам пропаганды…
Эх, ты доля, моя доля,
Доля горькая моя!
Ах, зачем ты, злая доля,
До Сибири довела?
Не за пьянство, за буянство
И не за ночной разбой, —
Стороны родной лишился
За крестьянский мир честной.
В год голодный, год несчастный
Стали подати сбирать
И крестьянские пожитки
И скотину продавать.
Я с крестьянской челобитной
К царю русскому пошел,
Да схватили по дороге,
До столицы не дошел.
Очутился я в Сибири,
В шахте темной и сырой.
Там товарища я встретил:
"Здравствуй, друг, и я с тобой!"
Ф.М. Достоевский писал о душе народной: «…судьба до того ее починала и некоторые обстоятельства до того содержали ее в грязи, что пора бы пожалеть ее бедную и посмотреть на нее поближе, с более христианскою мыслью, и не судить о ней по карамзинским повестям и по фарфоровым пейзанчикам».
А вот и предельно строгое и точное медицинско-историческое освидетельствование ученого из наших дней:
«На Восточноевропейской равнине в силу специфики природных условий всегда имел место крайне короткий сезон земледельческих работ. Вместе с преобладанием малоплодородных почв это обусловило низкую урожайность и, как следствие, невысокий объем совокупного прибавочного продукта. Общество в таких условиях было либо обречено на пребывание на догосударственной стадии развития, либо вынуждено к созданию жестких государственных механизмов, способных изымать и перераспределять этот продукт. Этим обусловлена прослеживающаяся с раннего Средневековья (и увеличившаяся в Средневековье позднее) повышенная роль государства в социально-экономическом развитии… Крепостная система была со стороны господствующего слоя «компенсационным механизмом выживания», позволявшим обществу прогрессивно развиваться в неблагоприятных условиях. Со стороны крестьянства таким механизмом являлось прочное общинное устройство»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воздыхание окованных. Русская сага"
Книги похожие на "Воздыхание окованных. Русская сага" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Екатерина Домбровская-Кожухова - Воздыхание окованных. Русская сага"
Отзывы читателей о книге "Воздыхание окованных. Русская сага", комментарии и мнения людей о произведении.