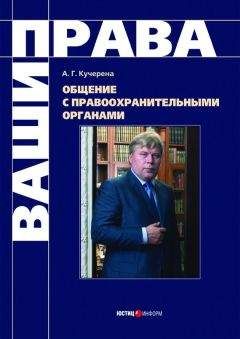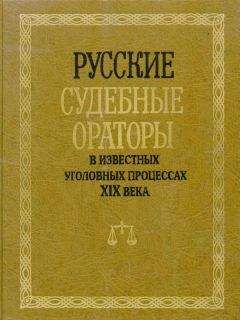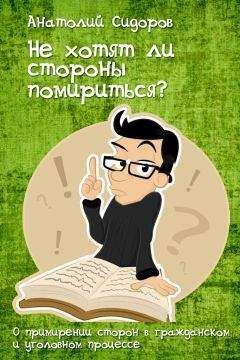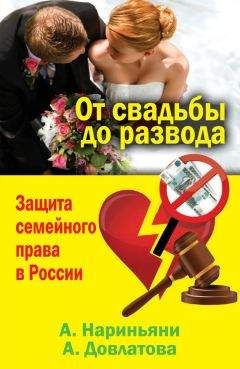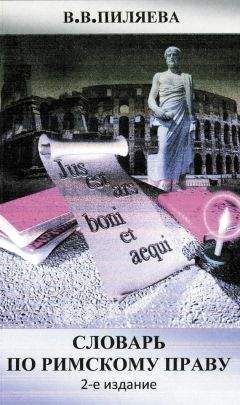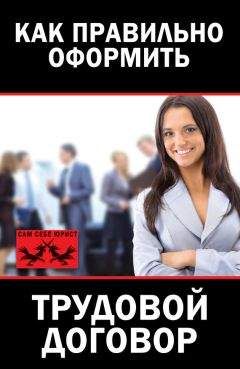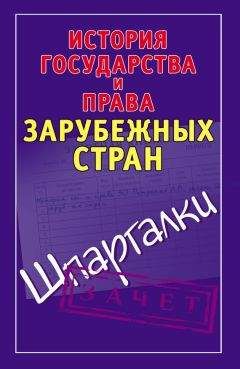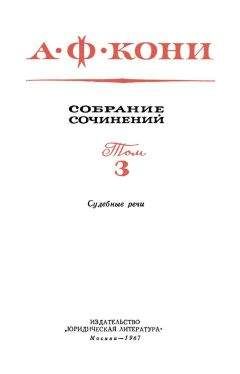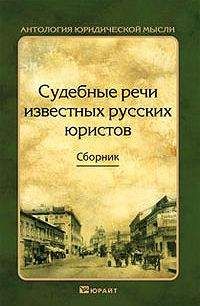Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера" читать бесплатно онлайн.
Выдающийся судебный деятель и ученый-юрист, блестящий оратор и талантливый писатель-мемуарист, Анатолий Федорович Кони был одним из образованнейших людей своего времени.
Его теоретические работы по вопросам права и судебные речи без преувеличения можно отнести к высшим достижениям русской юридической мысли. В пятом томе изложены очерки Кони биографического характера.
Свойства дарования и приемы работы Урусова были слишком индивидуальны, чтобы создать ему учеников. Могли быть только подражатели, да и то, если бы судьба их одарила и физически так же, как их образец у Но подражать Плевако было, по моему мнению, невозможно, как нельзя подражать вдохновению. Такое подражание всегда звучало бы фальшиво и резало бы ухо, не достигая сердца. Но учеников он создал в смысле уменья подниматься от частного к общему и идти не только по прямой линии логических размышлений, но и к окружности по всем радиусам бытового и общественного явления во всей его цельности.
Так шли они — Урусов и Плевако, — разделяемые взглядами, приемами и симпатиями, сходясь и расходясь, в течение долгих лет с достоинством неся службу слову, которая привлекла их к себе на яркой заре Судебных уставов и которой они остались верны, когда для этих Уставов наступили сумерки, предвещавшие недалекую тьму. Урусов не дожил до начала перерождения законодательного строя России и был лишен возможности воскликнуть вместе с Пушкиным, которого он — тонкий критик — сознательно любил и изучал: «Да здравствует разум, да скроется тьма!». Да и вообще, несмотря на блестящий успех первых шагов его деятельности, судьба не была милостива к Урусову, и он много выстрадал в жизни. Вынужденное бездействие, вследствие административной ссылки в Венден в самом разгаре блестящей деятельности, не могло не отразиться на его душевных силах. Медленное завоевание прежнего положения, причем он должен был пройти искус пребывания в прокурорском надзоре и сопряженную с этим иерархическую подчиненность, стоило ему много. Когда он снова сделался адвокатом, у него уже не было бодрых молодых сил и подкупающей молодой отваги. Житейский опыт принес много разочарований и ничего не дал для дальнейшего развития таланта. Наставшая затем жизнь в Москве в среде друзей и любимых занятий литературой, искусством, коллекционерством, устройством своего home [18] могла бы дать позабыть грустные года насильственного молчания и искания исхода в мелкой журнальной работе. Но медленно, беспощадно и неотвратимо подкрался недуг и подточил его силы. Отняв устойчивость в ногах и слух, он сжал его в объятиях жестоких мучений, заставлявших этого человека, так любившего жизнь, жадно ждать смерти, как «небытия». Нет сомнения, что доживи он до наших представительных учреждений, он занял бы в них видное место в ряду прогрессивных деятелей. В его речах блистали бы уместные и умные цитаты, хорошо продуманные исторические примеры, тонкие и остроумные сравнения, стрелы его иронии больно задевали бы тех, на кого они направлялись, и веселили бы единомышленников, а по национальным и религиозным вопросам он, конечно, подымался бы на высоту общечеловеческих начал и гуманности. В его словах звучали бы подчас протест и сарказм Вольтера. Но едва ли ему довелось бы проявить большое влияние: политическое красноречие совсем не то, что красноречие судебное. В основании последнего лежит необходимость доказывать и убеждать, то есть, иными словами, необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению. Но политический оратор немногого достигнет, убеждая и доказывая. У него та же задача, хотя и в других формах, как и у служителя искусства: он должен, по выражению Жорж Занд, «montrer et emouvoir» \ то есть освещать известное явление всею силою своего слова и, умея уловить создающееся у большинства отношение к этому явлению, придать ему действующее на чувство выражение. Ему следует связать воедино чувства, возбуждаемые ярким образом, и дать им воплощение в легком по усвоению, полновесном по содержанию слове.
Для этой роли был создан Плевако. Уже больной и слабый, он успел произвести впечатление своею речью и уловить единодушное настроение нижней палаты своим предложением «выйти из рубашки ребенка и облечься в тогу мужа». Политическая речь должна представлять не мозаику, не поражающую тщательным изображением картину, не изящную акварель, а резкие общие контуры и рембрандтовскую «светотень». Легкий, но неотлучный скептицизм мешал бы в этом Урусову, и, наоборот, мне думается, что когда нужно было бы передать слушателям свою горячую веру и зажечь пламя в их душах, — одним словом, когда нужно было бы явиться не вождем единомышленных взглядов, но вождем сердец, Плевако был бы трудно заменим. Судьба замкнула его уста при первом шаге в обетованную землю, открывшуюся перед ним. Но уже и в том, что она открылась его взору, для человека его поколения было счастье. Русский человек до мозга костей, неуравновешенный и размашистый по натуре, мало читавший, но много думавший, глубоко религиозный, знаток и любитель Писания, он был типическим выразителем своей родины и москвичом «с ног до головы». И в то время, когда в мечтах об отдыхе у европейца Урусова, толкователя и поклонника Флобера, мастерски говорившего по-французски и с успехом выступавшего пред Парижским судом в шапке и тоге адвоката, вероятно, носились весело озаренные солнцем Елисейские поля Парижа, оживленные движением пестрой, изящной толпы, мысли Плевако неслись на Воробьевы горы, витали вокруг старых стен и башен Девичьего монастыря и упивались воспоминанием о вечернем звоне «сорока сороков».
Их обоих уже нет. Они ушли, оставив по себе яркую и живую память в истории русской адвокатуры и в тех, кто мог лично в них вглядеться и к ним прислушаться. Мы живем в серое время; серые, лишенные оригинальности, люди действуют вокруг нас и своею массой затирают немногих выдающихся людей. Но эта полоса должна пройти! Урусов и Плевако были для своих современников людьми, показавшими, какие способности и силы может заключать в себе природа русского человека, когда для них открыт подходящий путь. Провидение ведет нашу родину дорогою тяжелых испытаний, но пути к проявлению сил и способностей понемногу все-таки расширяются. Поэтому должны, не могут не явиться новые их носители! Они были, и хочется думать, что тургеневский Увар Иванович, поиграв перстами и задумчиво поглядев вдаль, скажет еще раз: «будут!»
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ АРСЕНЬЕВ *
Жизнь прожить — не поле перейти, — говорит старая русская пословица. И, действительно, как бы заурядна ни была жизнь человека, но если он может оглянуться на полвека своего сознательного существования в качестве взрослого, то и в последнем найдутся годы, периоды, дни и часы, которые все-таки заслуживают некоторого воспоминания. К сожалению, всеразрушающая рука времени не щадит не только физической оболочки, но и душевных свойств большинства людей, из которых, по выражению Талейрана, «годы обыкновенно не делают мудрецов, а лишь старцев». При этом нередко стареющиеся люди не без умиления приветствуют в себе тот мимолетный подъем жизненной энергии, который принято называть «второю молодостью», и никогда не обращают нужного внимания на явные и печальные признаки того, что справедливо назвать «вторым детством», ко всему относящимся с эгоистическим благодушием и стремлением к спокойствию во что бы то ни стало. Недаром Белинский, считая труд задачей всей жизни до гробовой доски, советовал бояться преждевременной старости, первыми страшными предшественниками которой считал «довольство тем, что есть, без потребности в том, чего нет, но без чего, однако, не для чего жить», — а также «примирение с окружающей действительностью и терпимость к посредственности». Цельность нравственного образа и последовательность в слове и в деле не составляют, как известно, частого явления в нашей жизни. Под влиянием историко-бытовых условий и при полном отсутствии воспитания личности, мы были всегда богаты людьми, метко характеризуемыми в русских грамотах XVI столетия, как «духом перегибательные». Редкий из них мог бы, без краски запоздалого стыда, вспомнить завет великого поэта: «Fur die Traume seiner Jugend Achtung tragen wenn er Mann wird!». Такими людьми бывают не только лишенные всяких убеждений, угодливые искатели тех мест и положений, где в данное время и лишь на данное время, согласно поговорке, «глубже и лучше», но и убежденные отрицатели своего прошлого, «сожигающие то, чему поклонялись», и без оглядки решительно переходящие из Савлов в Павлы или, к сожалению, чаще всего, наоборот. Отсутствие цельности и последовательности, однако, сказывается нередко и на людях, за которыми есть долгие годы сознательной деятельности в строго выдержанном направлении и которые вдруг «sans crier gare!»[19] в приступе малодушия, под влиянием скоропреходящих неблагоприятных обстоятельств или из суетного опасения утраты житейских удобств, кладут, иногда ввиду уже близкой могилы, крест на свое прошлое и идут туда, где их встречают с радостью, но принимают без уважения, восклицая им внутренно: «Да воспляшет Исакий с нами!».
Чем печальнее последнее явление, тем ценнее возможность отметить существование в нашей общественной среде деятеля, оставшегося неизменно и несмотря ни на что верным себе во всех фазисах своей жизни, отданной неуклонному служению идеалам личной и общественной нравственности. Таким деятелем представляется К. К. Арсеньев. Родившийся 24 января 1837 г., он был младшим сыном известного статистика и историка Константина Ивановича Арсеньева (1789–1865 гг.), и если справедливо изречение, что «дитя — отец взрослого», то некоторые черты деятельности Арсеньева должны были быть посеяны еще в его детстве. Отец его был жертвою известного разгрома Петербургского университета, произведенного в 1821 году Руничем, усмотревшим «обдуманную систему неверия и правил зловредных и разрушительных в отношении к нравственности, образу мыслей и духу учащихся» в том, что молодой профессор в своих «Начертаниях статистики» находил землю, возделанную вольными крестьянами, дающею обильнейшие плоды против обработанной крепостными, считал гражданскую личную свободу истинным источником величия и совершенства всех родов промышленности и указывал на запутывание в сетях ложного толкования законов невинных и неопытных людей «знающими», руководящимися не беспристрастием, а лихоимством. Осуждение крепостных отношений, бессудия и бесправия, подмеченное Руничем во мнениях Арсеньева, без сомнения, нашло себе место в уроках, даваемых последним наследнику престола, будущему Александру II, отразившись и на его великих реформах. Этим же осуждением проникнуты были и руководящие начала деятельности К. К. Арсеньева. Училище правоведения, в стенах которого пробыл молодой Арсеньев с 1849 по 1855 год, не оставило в нем особенно теплых воспоминаний. Через тридцать лет по окончании курса («Русская старина», 1886 г.) ему вспоминались, на общем тусклом фоне рутинного преподавания и формалистической дисциплины, лишь два профессора, обладавшие способностью оживлять свой предмет, и выделялся, возбуждая благодарное чувство, образ П. Д. Калмыкова, всегда серьезного, почти мрачного, но изысканно-вежливого и деликатного, поражавшего сдержанно-страстным отношением к своему предмету (уголовному праву), выражавшимся во всем — в голосе, тоне, образной речи и пафосе, с которым он говорил об излагаемых им учениях или восставал против смертной казни, телесных наказаний и наложения клейм, что было, по тогдашним временам, не совсем безопасно для профессора. Весной 1855 года молодой Арсеньев окончил курс и вступил в общественную жизнь, под далекий гул Севастопольской канонады, в которой уже слышался погребальный салют проникнутому удушливой и сгущенной тьмой крепостному строю государства. Хотя Иван Аксаков еще писал в это время своему отцу, что «каждый мыслящий русский имеет право на мученический венец», и спрашивал его: «Чего можно ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить беззаконно, чтоб поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзости, чтобы добиться необходимого законного?»— но заря новой жизни в других условиях уже чувствовалась. Первые годы деятельности прошли для Арсеньева в службе по центральному управлению министерства юстиции, в участии в редактировании основанного в это время журнала этого министерства и в мечтах о кафедре всеобщей истории в университете, для чего он готовился к экзамену на кандидата историко-филологического факультета и слушал лекции в Бонне. Мечта эта, однако, не осуществилась, хотя Арсеньев к ней возвращался не раз. Невозможность остаться за границею необходимое время и журнальная работа, затягивавшая его по мере расширения горизонтов, задач и фактических прав печати, заставили его отказаться от мысли о кафедре. Результатом этого периода жизни его явился ряд этюдов по политической экономии и государственному праву, множество статей в отделе иностранной политики в «С.-Пб. ведомостях» Корша и перевод «Истории французской революции» Минье, с предисловием к нему.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Книги похожие на "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Кони - Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера"
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений в 8 томах. Том 5. Очерки биографического характера", комментарии и мнения людей о произведении.