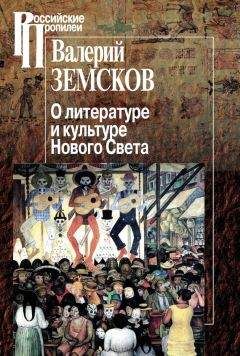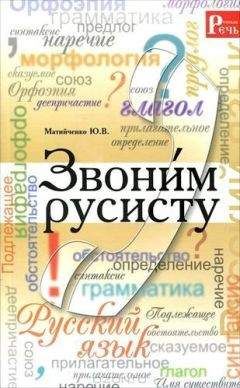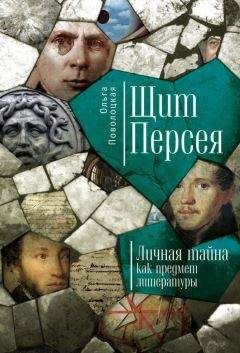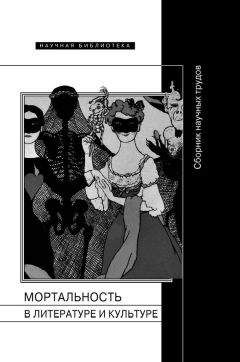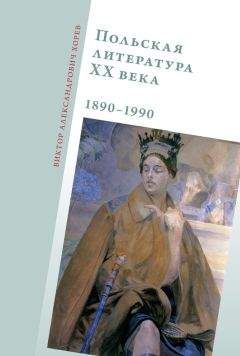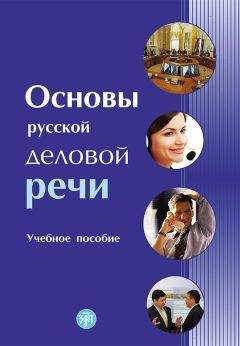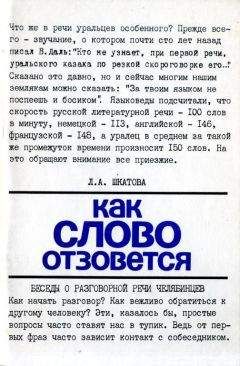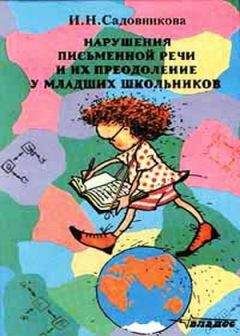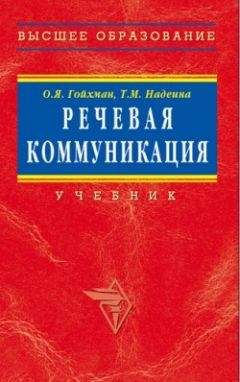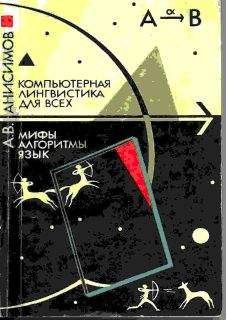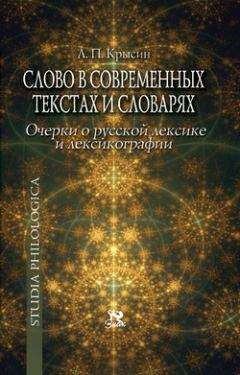Борис Дубин - Слово — письмо — литература

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Слово — письмо — литература"
Описание и краткое содержание "Слово — письмо — литература" читать бесплатно онлайн.
Сборник статей известного социолога посвящен проблемам организации и динамики культуры, теоретическим задачам ее исследования. В ней рассматриваются формы устной, письменной и массовой коммуникации (слух, анекдот, песня, газета, журнал, книга, реклама), отдельные словесные жанры и формулы (биография и автобиография, фантастика, боевик и детектив, историко-патриотический роман), роль цензуры в обществе, символика успеха и поражения в культуре, работа репродуктивных систем общества (издательств, библиотек, музеев). Особое внимание уделено интеллигенции, процессам ее исторического формирования, особенностям самопонимания, феноменам депрофессионализации и распада.
Что дает обращение к биографии писателя и для чего оно практикуется в науке о литературе, в истории культуры? Как правило, с биографией в суждения о литературе входит момент исторической относительности, а именно — соотнесенности литературных явлений с фактами иного порядка и уровня. Скажем, происхождение, карьера и положение в обществе воссоздают систему социальных связей литератора (от семейно-родовых до административно-государственных), успех или крах его начинаний указывает на силы поддержки и механизмы сопротивления новому (либо, напротив, дисквалификации эпигонства), а тем самым — говорит о разных существующих в обществе, его группах, кругах и кружках системах оценок литературы, критериях «литературности» (по выражению Р. Якобсона). Писатель при этом понимается как работник — или, напротив, дилетант, либо даже сибарит, — но в любом случае не как памятник. В круг внимания входит общество в сложности его состава, культура в разнообразии ее возможностей, обращение к малым литераторам неминуемо начинает менять и способы интерпретации литературы, заставляя отходить от стереотипов «гениального» и «великого», а далее — усредняя и образ «литературного героя» («средний человек» и т. д.). В этом смысле «Таблица чинов» в первом томе и «Исторические реалии биографий» — во втором имеют, я бы настаивал, не только справочную функцию, но и фиксируют принципиальный подход создателей Словаря, вместе с тем отмечая границы «нормального» или «чистого» литературоведения.
В принципе теперь можно было бы уже задаться целью выстроить — на материалах Словаря — реестр типовых биографий писателя в России XIX в., связав их, с одной стороны, с чертами социальной роли, культурной маски (аристократ-любитель, радикал-разночинец, самоучка из низов, ученый-популяризатор, рыночный «затейник» и др.), а с другой — с настойчиво воспроизводимыми писателем темами, конфликтами и формами поэтики, языка, обращения к читателю. Это впрямую подводит к проблемам общественного отклика на литературу, проблемам ее «рецепции» или «воздействия» (в терминах Констанцской школы).
Обращение к библиографии — еще один резерв интерпретации для историка литературы на фоне жесткого дидактически-классикалистского канона. Не говорю здесь о подсобной, справочной роли скрупулезных библиографических списков, сопровождающих каждую, даже самую малую, биографическую заметку в Словаре. Не менее важным мне кажется другое. Во-первых, сама презумпция необходимости документально мотивировать любой приводимый в статье факт или выносимое суждение. Они в Словаре все меньше подвластны давлению предзаданной идеологии литературы (будь в ее основе «выражение духа народа» или «этапы революционно-освободительного движения в России»), Но, соответственно, все меньше веса при таком подходе может иметь литературно-критический импрессионизм с его шаблонами «выразительности», «свежести» и проч. Во главу угла осознанно становится свидетельство, литературного современника (в этом — основа тыняновского подхода к литературному факту в одноименной статье 1924 г.). Литературное событие как бы конструируется у нас на глазах, «собирается» из мозаичных авторских свидетельств, оценок текущей критики разных направлений, мемуаров и переписки, наконец, устных оценок, зафиксированных в интимных, дружеских и семейных формах письма, заметки для себя и т. п. И это — второй важный в связи с библиографией момент. Обращение литературоведов к внелитературным источникам при работе со своими персонажами симптоматично. Жесткость границ нормативного подхода к словесности заставляет выходить в иные пласты культуры, к другим формам ее организации (а стало быть — к другим группам и сообществам, выносящим оценку и сохраняющим память о событии). Отсюда — использование таких экзотических для «памятникового» образа литературы источников, как адрес-календари, адресные и памятные книжки, родословные, особенно — внепечатных (архивов разных уровней, с их разными горизонталями памяти).
Составляя как бы естественную основу для многосторонней оценки «малых» авторов, этот «документальный» подход нередко меняет структуру и содержание самых больших статей Словаря, отведенных и старым классикам, и недавно канонизированным авторитетам Серебряного века. Это заметно усложняет представления о «главной линии», «основных путях», в ряде случаев уточняя и пересматривая сложившиеся здесь догматические штампы (скажем, в статьях о В. Белинском или Н. Добролюбове, Д. Бедном или М. Горьком). Опора на «очевидцев» всякий раз возвращает читателя Словаря в «историю», к моменту, когда, говоря словами Тынянова-романиста, «еще ничего не было решено».
По-своему парадоксально, что подобный, альтернативный классикалистскому, подход проведен именно на материале XIX в. — эпохи национальных классиков. Но ведь для более ранних периодов не характерны ни идея «национальной литературы», ни образ представляющих ее «вершин» (исключение здесь, может быть, лишь Ломоносов, единственный вошедший в сколько-нибудь массовый пантеон «отечественной культуры»). Для классицистского XVIII века разрыв между уровнем «гениев» и «работников» далеко не столь резок, объем литературной системы сравнительно невелик, установка на канон имен и образов зарубежной словесности, с одной стороны, и адаптацию их к местным условиям, с другой, не делает внутреннюю организацию литературы — и преемственность, и динамику — специальным узлом проблем. Ни автономное положение литературы и литератора в обществе, ни общественная роль словесности не становятся еще заботой особых групп, притязающих — от имени соответственной идеологии литературы — на контроль за литературным пополнением, социальным продвижением писателя, системой оценок и др. Но поэтому — и может быть, не совсем справедливо — кажется, что здесь нет и «глубины» литературной культуры, сложности ее социальной организации с понятиями о «верхе» и «низе», «литературе» и «нелитературе», «устарелом» и «новом».
По крайней мере, сходная полнота описания литературы в другом издании, «Словаре русских писателей XVIII века» (Т. 1. Л., 1988) как будто не дает того же, что в Словаре, эффекта моментально раздвинувшихся горизонтов или поднявшихся со дна Атлантид. Объем литературной системы XVIII в. более близок к отобранному и представленному в виде «выдающегося», а потому столь резких количественных расхождений между «Краткой литературной энциклопедией» и упомянутым словарем все-таки нет. Век девятнадцатый же, видимо, и важней для понимания литературы (и дидактико-классицистической ее идеологии), и в гораздо меньшей степени известен и понят (иначе говоря, жестче цензурирован литературной идеологией). Резкость в пересмотре подходов к словесности на этом материале значимей и ощутимей.
И если попытаться очень коротко, буквально в нескольких словах выразить ощущение от общего, панорамного образа литературы, встающего со страниц Словаря, то я бы назвал его опять-таки парадоксальным. Поражает потенциальное богатство человеческих сил, вовлеченных в литературу, пестрота жизненных обстоятельств практически любого из вошедших в Словарь автора, напряженность взаимоотношений литературы с социальным контекстом, с другими культурными системами, которые и сами на протяжении почти что полутора охватываемых изданием веков крайне динамичны (возьмем ли мы сословную, классовую структуру общества, его экономику или науку, верования или право). Я хочу сказать, общество — через биографии людей, составляющих либо так или иначе представляющих едва ли не всю письменно образованную элиту страны четырех-пяти поколений, — взято в Словаре на стадии формирования, в движении. Думаю, одним из моментов, сторон этого движения к обществу как сложной системе была в этот период и литература в совокупности всего, что притягивало к ней как авторов, так и читателей и что на нее образованными слоями возлагалось. (Можно подыскать аналоги подобной ситуации за пределами описываемого периода — как раньше, так и позже, как за пределами России, так и в наследовавшей ей стране, но это задача другая и сейчас, может быть, не самая главная.)
Эту динамичность чувствуешь и на другом — напряженности ритмов существования в литературе, сжатости литературных биографий, скорости смены поколений. Скажем, с архаизирующим в начале XIX столетия Иосифом Восленским мы не просто в XVIII в., но уходим к эпохе европейского барокко (см. его перевод поэмы Джамбаттисты Марино, изданной в 1633 г.); с переводами из драматургов-елизаветинцев Ивана Аксенова мы уже — в кругу вкусов европейского авангарда XX в., где-то рядом с Элиотом, Джойсом. Между тем этих авторов разделяют разве что два, много — три поколения, и Аксенов о Восленском, думаю, знать не знает. Мало того. Скорость литературной жизни такова, что редко какой из литераторов не переживает себя, период своей известности, оставаясь уже при жизни автором лишь одного произведения, запомнившись вещами одного периода, героем одного эпизода.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Слово — письмо — литература"
Книги похожие на "Слово — письмо — литература" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Дубин - Слово — письмо — литература"
Отзывы читателей о книге "Слово — письмо — литература", комментарии и мнения людей о произведении.