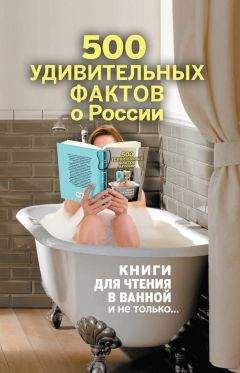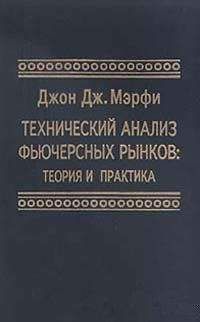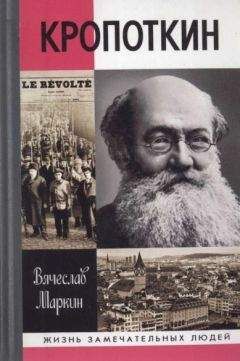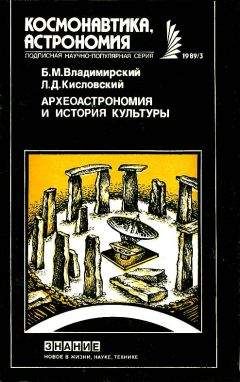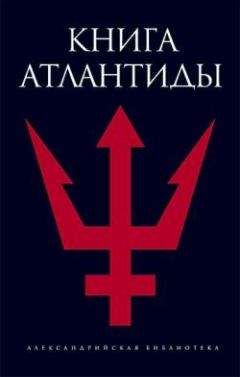Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Описание и краткое содержание "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена анализу интертекстуальных связей стихотворений Иосифа Бродского с европейской философией и русской поэзией. Рассматривается соотнесенность инвариантных мотивов творчества Бродского с идеями Платона и экзистенциалистов, прослеживается преемственность его поэтики по отношению к сочинениям А. Д. Кантемира, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского, Велимира Хлебникова.
В одном из наиболее насыщенных реминисценциями поэтических циклов Бродского — «Часть речи» (1975–1976) — интертекстуальные связи с Пушкиным и Ходасевичем прослеживаются сразу в нескольких стихотворениях. В стихотворении «Север крошит металл, но щадит стекло…» Бродский переиначивает строки из «Полтавы»: «Так тяжкий млат, / Дробя стекло, кует булат» (IV; 184). Такое переосмысление может объясняться полемикой с Пушкиным — певцом империи, оправдывающим деспотизм ее создателя Петра I. Но трансформация пушкинских строк имеет иной смысл. Собственное стихотворение Бродский строит как переписывание — в буквальном смысле слова — чужих текстов: новый смысл появляется благодаря рекомбинации заимствованных из чужих произведений элементов. Текст Бродского — почти классический центон. Такая «центонность», свойственная и другим его произведениям, является реализацией представлений Бродского о творческой, креативной сущности языка, орудием которого оказывается поэт[573]. В завершающей строфе этого стихотворения:
И в гортани моей, где положен смех,
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай» —
переиначены уже строки Ходасевича:
Вдруг из-за туч озолотило
И столик, и холодный чай.
Помедли, зимнее светило,
За черный лес не упадай.
Эти стихотворения объединяет мотив «замерзания». У Ходасевича замерзание символизирует утрату вдохновения, у Бродского — разлуку, умирание чувства (его стихотворение имеет любовный подтекст). Оба содержат отсылки к пушкинским текстам: «Север крошит металл…» — к «Полтаве», «Вдруг из-за туч озолотило…» — к «19 октября» (1825), открывающемуся описанием краткого осеннего дня («Проглянет день как будто поневоле / И скроется за край окружных гор» [II, 244]). «Холодный чай» Ходасевича переиначен Бродским в «горячий чай». «Черному лесу» соответствует чернеющее «прощай». Сигналом того, что стихотворение Бродского переписывалось, является подчеркнутое нарушение семантической правильности высказывания: глагол «раздается» должен относиться или к смеху, или к «прощай», но не к снегу. Холод у Бродского обретает, в противоположность Ходасевичу, позитивные коннотации: «Холод меня воспитал и вложил перо / в пальцы, чтоб их согреть в горсти» (II, 398). У Ходасевича же холод контрастирует с поэтическим вдохновением: «Дай посиять в румяном блеске, / Прилежным поскрипеть пером» (с. 157). Одновременно эти строки и Ходасевича, и Бродского — отклик на пушкинскую «Осень», в которой мотив осенних холодов и скорой временной смерти природы соединен с мотивом вдохновения. Ходасевич цитирует также более раннее пушкинское «Зимнее утро», с которым «Осень» интертекстуально соотнесена. Строки из «Зимнего утра»: «Вся комната янтарным блеском / Озарена» (III, 125) — у Ходасевича превращаются в «Дай посиять румяным блеском». Кроме того, Ходасевич и Бродский цитируют строку из «Осени»: «И пальцы просятся к перу…» (III, 248).
Ходасевич полемически — по отношению к Пушкину — связывает холод зимы с утратой поэтического вдохновения, а темноту — с угасанием творческого огня и духовных стремлений (в «Осени» вдохновение пробуждается вечером у «камелька забытого» [III, 248]). Бродский же как бы возвращается к пушкинским текстам, «зачеркивая» написанное «поверх них» стихотворение Ходасевича. Впрочем, оно, вероятно, является текстом «с двойным дном». «Солнце русской поэзии» — уподобление, которое впервые прозвучало в некрологе В. Ф. Одоевского на смерть Пушкина. Этот образ стал своего рода метафорическим именем поэта в стихотворениях и в статье Осипа Мандельштама «Скрябин и христианство»[574]. И солнце в стихотворении Ходасевича может также означать Пушкина, а закат зимнего солнца — трагический разрыв настоящего с пушкинской поэтической традицией. Указания на интертекст «Зимнее утро» — «Осень» — «Вдруг из-за туч озолотило…» присутствуют и в более позднем стихотворении Бродского «Эклога 4-я (зимняя)» (1980). Строка «и перо скрипит, как чужие сани» (III, 13) отсылает и к перу из пушкинской «Осени», и к ходасевичевскому скрипящему перу[575]. Сани — аллюзия на пушкинские «Осень» и «Зимнее утро» и на элегию П. А. Вяземского «Первый снег». Во всех трех стихотворениях упоминаются санные катанья, причем в «Осени» содержатся переклички с «Первым снегом» и с «Зимним утром». Но пушкинскому упоению любовью и радостью жизни у Бродского противопоставлено холодное одиночество лирического «Я». Совершенно чужд стихотворению Вяземского и двум связанным с ним пушкинским текстам мотив близкой смерти, которым окрашены строки Бродского. В этом отношении произведение Бродского скорее перекликается с другой «Осенью» — «Осенью» Баратынского.
Скрипящее перо — инвариантный образ поэзии Бродского, встречающийся и в стихотворении «Пятая годовщина (4 июня 1977)»: «Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох»; «Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу» (II; 422)[576]. У Бродского — в отличие от Ходасевича — в роли субъекта действия выступает не поэт, а перо, у автора «Тяжелой лиры» обладающее только орудийной функцией[577].
Завершающие эклогу Бродского строки:
Так родится эклога. Взамен светла
загорается лампа: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после —
напоминают заключительные стихи пушкинской «Осени», в которых описывается пробуждение поэтического воображения. Но они также — отражение ходасевичевских: «Я разгоняю мрак и в круге лампы / Сгибаю спину и скриплю пером» («Великая вокруг меня пустыня…», с. 298). У Ходасевича скрип пера означает не только творчество, но и течение жизни («Живем себе, живем, скрипим себе, скрипим» — «Милому другу», с. 84); для Бродского язык и поэзия, обозначенные образом пера, — форма и хранилище времени[578]. Скрипящее, как сани, перо представлено в поэзии Бродского подобием пушкинской телеги жизни (не случайно автор «Эклоги 4-й <…>» сравнивает перо с санями). А в раннем стихотворении Бродского «Обоз» скрипящие телеги символизируют время, жизнь, а сноп — человека[579].
Образ пера обретает у Бродского метафизическое, философское значение, лишь намеченное у Ходасевича[580].
Эклога Бродского отталкивается от IV эклоги Вергилия, в которой рисуется золотой век будущего и предрекается рождение божественного младенца. Упоминание сивиллы отсылает именно к этой эклоге[581]. Бродский полемизирует с Вергилием: наступление золотого века на земле и рождение божественного ребенка невозможны. Но вместо голоса сивиллы, обещающей благоденствие Римскому государству, раздается «тихий», «частный» голос Музы, и рождается стихотворение. Так пушкинская «частная» традиция поэзии как высшей ценности бытия противопоставляется Бродским вергилианской государственной теме[582].
В «Эклоге 4-й <…>» цитируется также строка «Шалун уж заморозил пальчик…» (V, 87) из второй строфы пятой главы романа в стихах «Евгений Онегин»:
время, упавшее сильно ниже
нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик
шалуна из русского стихотворенья.
Именование «Евгения Онегина» просто «русским стихотвореньем» показательно. Сходным образом в стихотворении Бродского «К Евгению» из цикла «Мексиканский дивертисмент», где цитируется стихотворение Пушкина «Так море, древний душегубец…», о его авторе написано так: «Как сказано у поэта, „на всех стихиях…“» (II, 374). Пушкинская поэзия для Бродского — это сущность русской поэзии вообще, ее квинтэссенция[583].
В цикле «Часть речи» интертекстуальные связи с поэзией Пушкина и Ходасевича обнаруживаются еще в стихотворениях «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» и «…и при слове „грядущее“ из русского языка…». Первое из них начинается так:
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос,
если вьется вообще.
Бродский цитирует строки из «Вступления» к «Медному Всаднику»: «На берегу пустынных волн / Стоял он, дум великих полн»; «По мшистым топким берегам» и «Из тьмы лесов, из топи блат» (IV, 274), полемизируя при этом с пушкинской версией петербургского мифа, воплощенной во вступлении к поэме. Пушкин противопоставляет пустынную местность в устье Невы вознесшемуся здесь с фантастической быстротой прекрасному городу. Бродский же именует место своего рождения «балтийскими болотами», как бы не замечая Петербурга (параллель — стихотворение «К Евгению» из цикла «Мексиканский дивертисмент», в котором отчизна Пушкина названа «родными болотами»). Он не случайно обращается именно к «Медному Всаднику» — ключевому и начальному для «петербургского текста» русской литературы произведению[584]. Балтийские волны, как и вообще воды у Бродского, ассоциируются с поэзией, временем, смертью[585]. Петербургско-балтийский локус важен для Бродского и как «окно в Европу», символ и обетование русского европеизма[586], и как культурное пространство, внутренне неразрывное с пушкинской традицией, напоенное ее воздухом и формами[587].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Книги похожие на "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Отзывы читателей о книге "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.