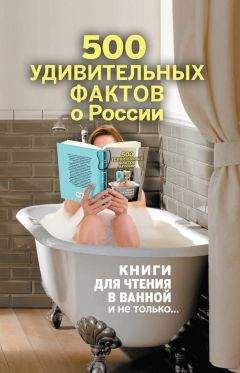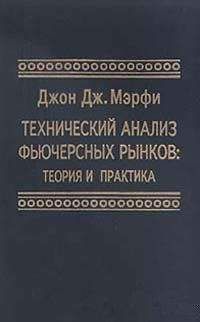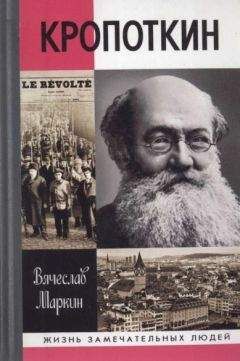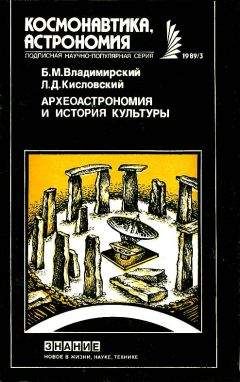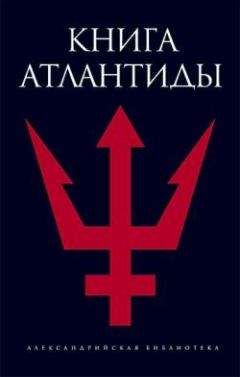Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Описание и краткое содержание "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена анализу интертекстуальных связей стихотворений Иосифа Бродского с европейской философией и русской поэзией. Рассматривается соотнесенность инвариантных мотивов творчества Бродского с идеями Платона и экзистенциалистов, прослеживается преемственность его поэтики по отношению к сочинениям А. Д. Кантемира, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского, Велимира Хлебникова.
Избирающий позу «в дуду дудящего» шуга, Бродский отстраняется от Маяковского — «горлана-главаря», но помнит о Маяковском — авторе любовной лирики. Укажу в этой связи на более поздний случай полемики с Маяковским — «поэтом революции» в мексиканском цикле Бродского (1975). «Все-таки лучше сифилис, лучше жерла / единорогов Кортеса <…>» (II; 374), — пишет он в стихотворении «К Евгению», противопоставляя окостенелости ацтекской цивилизации с ее человеческими жертвоприношениями — испанских завоевателей, олицетворяющих мир истории, динамики. В другом тексте из «Мексиканского дивертисмента» — «1867» — Бродский иронически рисует революционера с его «гражданской позой» (II; 368). В обоих стихотворениях слышатся полемические отголоски строк «Мексики» Маяковского: «Тяжек испанских пушек груз. // Сквозь пальмы, / сквозь кактусы лез // <…> генерал Эрнандо Кортес. // <…> Хранят / краснокожих / двумордые идолы. // От пушек / не видно вреда» (I; 304) и «Скорей / над мексиканским арбузом, // багровое знамя, взметнись!» (I; 309). Характерно, что в стихотворении «К Евгению» Бродский не только отрицает Маяковского, но и соглашается с пушкинским «А человек везде тиран иль льстец, // Иль предрассудков раб послушный» из стихотворения «В. Ф. Раевскому» («Ты прав, мой друг, — напрасно я презрел…») (II; 109) и с вариацией этого мотива «На всех стихиях человек — / Тиран, предатель или узник» из стихотворения «К Вяземскому» («Так море, древний душегубец…» [II; 298]). Заглавие «К Евгению» отсылает читателя не только к посланию «Евгению. Жизнь Званская» Г. Р. Державина, но и к Пушкину — автору «Медного Всадника» и «Евгения Онегина».
Но вернемся к реминисценции из поэмы «Во весь голос». Метафора строк-войск встречается у Бродского не только в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт». Это повторяющаяся цитата. «Обратное», «изнаночное» по отношению к исходному уподобление: войска, похожие на строки, — встречается в «Каппадокии» (1993 (?)): «И войска / идут друг на друга, как за строкой строка / захлопывающейся посередине книги» (III; 234–235). Метафора Маяковского означает разящую, физически действенную, смертоносную силу слова, пера, приравненного к штыку. Семантика похожего образа у Бродского — противоположная. В ее основе — «барочное» представление о мире как тексте, об истории как Книге. В этой перспективе стираются, теряются из вила противоположность и вражда: идущие убивать друг друга воины враждебных армий становятся буквами одной и той же Книги истории. Но сама метафора Книги истории, или Книги жизни, встречается и у Маяковского: это «Книга — „Вся земля“», в веке двадцатом на одной из страниц которой записано имя героя поэмы «Про это» (II; 214).
Впрочем, у Бродского есть и пример адекватного, точного усвоения и применения метафоры, созданной Маяковским: «Я знаю, что говорю, сбивая из букв когорту, / чтобы в каре веков вклинилась их свинья! / И мрамор сужает мою аорту» («Корнелию Долабелле», 1995 [IV (2); 199]). Правда, в стихотворении Бродского буквы-солдаты противостоят не классовому врагу, а времени. Но и для Маяковского время необходимо «побеждать», утверждая в нем свое присутствие[651]. Однако Маяковский представляет успешной такую борьбу со временем и царящей в нем смертью: его герой рассчитывает «шагнуть» к «товарищам-потомкам», «как живой / с живыми говоря» («Во весь голос» [II; 426–427]), он кричит «большелобому тихому химику»: «Воскреси!» и надеется на свое Воскресение в грядущем («Про это» [II; 214]). Герой Бродского обречен на умирание, даже если его войска-строки и взломают каре времени: метафора мрамор, сжимающий аорту, — иносказательное обозначение смерти. При этом пейоративные коннотации концепта мрамор в поэзии Бродского, возможно, унаследованы именно у Маяковского, связывавшего памятник с «мертвечиной» («Юбилейное» [I; 223]). В то же время мотив боли в горле, затрудненного дыхания ассоциируется с мотивом горла, бредящего бритвою, из поэмы Маяковского «Человек» (II; 72). Но герой Маяковского, как всегда, активен, деятелен — он сам готов призвать смерть, убить себя; а герой Бродского просто претерпевает умирание.
Мрамор в стихотворении Бродского «Корнелию Долабелле» соотнесен с семантикой статуи, памятника. Эти ассоциации побуждают прочитать текст Бродского как свидетельство о победе над временем, как еще одну вариацию горациевско-державинско-пушкинского «Памятника», который грозился взорвать Маяковский в «Юбилейном». Но «победа», запечатленная в мраморе, в лучшем случае амбивалентна: платой за вторжение в каре времени оказывается оцепенение и немота сжатого горла. Бродский не следует за Горацием и Пушкиным и не бросает вызов теме «Памятника», как Маяковский. Он «переписывает» классический текст о величии и долгой славе поэта, наделяя его горькой иронией. Да и победа над временем сомнительна: лексема «свинья» как обозначение построения войска отсылает к знаменитой битве 1242 года русских войск Александра Невского с крестоносцами на Чудском озере: в советской историографии и культуре строй немецких рыцарей именовался «свинья». Крестоносцы потерпели в этой битве сокрушительное поражение.
«Скульптурный миф» (если воспользоваться выражением, употребленным Р. О. Якобсоном для характеристики творчества Пушкина[652]), генетически восходящий в значительной мере к Маяковскому, образует отдельный пласт в творчестве Бродского[653]. Уже в ранней лирике Бродского, вошедшей в сборник 1965 г. («Памятник», «Памятник Пушкину», «Я памятник себе воздвиг иной»), памятник и скульптурное изображение становятся символом лжи, оцепенения и смерти; в дальнейшем творчестве поэта в скульптурных образах, статуе акцентируется семантика вечности — остановленного времени — смерти («Торс») и «имперскости» («Post aetatem nostram», «Бюст Тиберия», пьеса «Мрамор» и др.[654]). Негативное смысловое наполнение образа статуи-скульптуры у Бродского несомненно отсылает (за исключением, разумеется, атрибута «имперскости», тоталитарности) к поэзии Маяковского («Юбилейное», «Владимир Ильич Ленин»[655]). Низвержение кумиров-монументов у Маяковского символизировало не только борьбу с окостеневшей традицией, но и со своего рода канонизацией (в том числе самоканонизацией) собственного творчества. «Даже известная ограниченность его — ограниченность статуи. Статуя может только менять положения: угрозы, защиты, страха и т. д. (Весь античный мир — одна статуя в различных положениях.) Видоизменять положения, но не менять материал, который раз навсегда ограничен и раз навсегда ограничивающий возможности. Вся статуя в себя включена. Она из себя не выйдет. Потому-то она и статуя. Для того-то она и статуя», — писала о поэзии Маяковского Марина Цветаева[656]. Борис Пастернак замечал, что с помощью «механизма желтой кофты» Маяковский «боролся <…> вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными»[657].
Статуя, скульптура в поэзии Бродского символизирует, кроме всего прочего, и стесняющие рамки поэтического канона, о чем косвенным образом свидетельствует и обращение к «Юбилейному», и бюсты римских классиков в «Мраморе». Поэтические каноны и системы замкнуты в себе, любая система ограничивает свободу: «<…> при всей их красоте, отдельные концепции всегда означают сужение значения, обрезание болтающихся концов. Тогда как в феноменальном мире в болтающихся концах-то все и дело, ибо они переплетаются»[658].
Персонифицируя, в частности, собственные поэтические каноны — клише Бродского, скульптура и мрамор, возможно соотносятся и с таким «классицистическим» образцом и источником Бродского, как сочинения Пушкина (ср. проанализированный Р. О. Якобсоном и Ю. М. Лотманом «скульптурный миф» в позднем пушкинском творчестве[659]). Вряд ли необходимо подчеркивать, что «борьба» с традицией у Бродского — в отличие от Маяковского — неотделима от намеренного возвращения к ней или повторения ее[660].
В рамках «скульптурного мифа» совершается у Бродского и расставание с традицией Маяковского. В произведениях Бродского 60-х — первой половины 70-х годов статуя и мрамор наделяются преимущественно пейоративной символикой, — в этом отношении «скульптурные образы» сходны с монументами у Маяковского. Между тем в лирике 80-х годов («Римские элегии») мрамор олицетворяет не только оцепенение («смерть»), но и «вечную жизнь»; а в пьесе «Мрамор» (1984) бюсты римских классиков — не только примета тоталитаризма, но и средство, с помощью которого герой выбирается из тюрьмы. Стихотворением, дающим ключ к метаморфозе «скульптурного мифа», оказывается «1972 год» (1972): отъезд в эмиграцию предстает в нем как переход в потусторонний мир и в «смерть» (или, что то же самое, — в «другую жизнь», в «другую половину жизни»). Характерны строки: «Всякий, кто мимо идет с лопатою, / ныне объект внимания», «уже те самые, / кто тебя вынесет, входят в двери», «нынче стою в незнакомой местности» (II; 290, 292). В третьем сонете («Земной свой путь пройдя до середины…» [II; 338]) из цикла о Марии Стюарт (1974) приоткрыт подтекст «1972 года»: это начальные строки дантовского «Ада». (Показательны также трехстишия, напоминающие о дантовской строфе — терцине, в посвященном теме эмиграции стихотворении «Пятая годовщина (4 июня 1977 г.)».) Достигший, подобно Данте, середины жизни, лирический герой Бродского попадает в иной мир. В «1972 годе» это Запад, в «Двадцати сонетах <…>» — в шутливом снижении — Люксембургский сад. В «потустороннем» пространстве время, по-видимому, не существует, и поэт «встречает» не только статую Марии, но и (дополняю свою первоначальную интерпретацию) как бы ее саму.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Книги похожие на "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Отзывы читателей о книге "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.