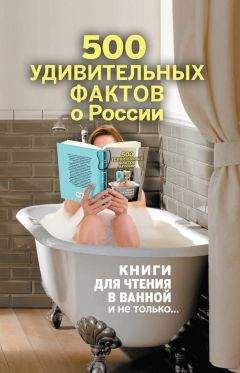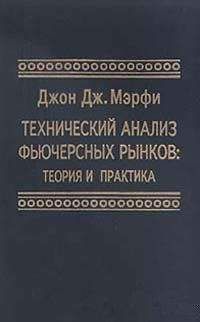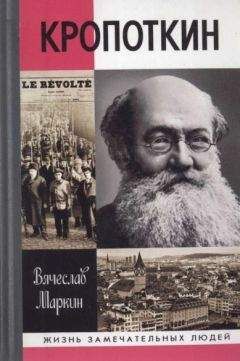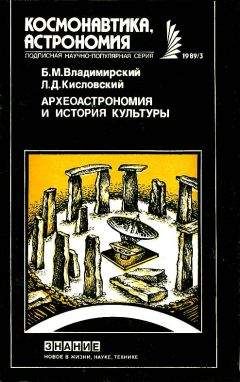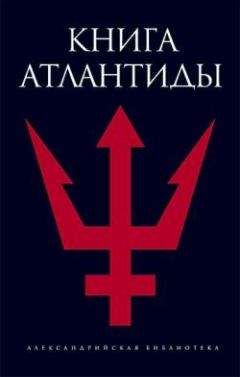Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Описание и краткое содержание "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена анализу интертекстуальных связей стихотворений Иосифа Бродского с европейской философией и русской поэзией. Рассматривается соотнесенность инвариантных мотивов творчества Бродского с идеями Платона и экзистенциалистов, прослеживается преемственность его поэтики по отношению к сочинениям А. Д. Кантемира, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского, Велимира Хлебникова.
Внешние проявления поэтического механизма Бродского — цитатность и акцентированная форма. В этом есть сходство с постмодернистской поэтикой. Сходство, однако, ни в коем случае не означает внутренней близости или глубокого родства.
IV. Экскурсы
Экскурс 1. «Я был в Риме»: «Римский текст» Бродского
«Римский текст» в поэзии Иосифа Бродского представляет, в некоторых отношениях, квинтэссенцию его художественного мира[687]; в нем, возможно, заключен общий механизм порождения «текста Бродского» (ТБ). Основные лексико-семантические элементы «римского текста» (РТ) — мрамор (статуя), персонифицированная (цезарь, наместник и т. п.) власть, центр — Город, периферия — провинции. Рим — понятие не историческое, а скорее метафизическое, точка пересечения двух основных категорий семантического мира Бродского — Пространства и Времени.
Время больше пространства. Пространство — вещь,
Время же, в сущности, мысль о вещи.
В эссе Бродского эта мысль развернута в ценностное противопоставление:
«<…> space to me is <…> both lesser and less dear than time. Not because it is lesser but because it is a thing, while time is an idea about a thing. In choosing between a thing and an idea, the latter is always to be preferred»[688].
Время как философская универсалия не тождественна необратимому ‘физическому’ потоку перемен. Метафизическое понятие осмысливает это движение и тем самым останавливает его. В образном выражении парадоксальному соотношению Времени-движения и Времени-мысли (о вещи) соответствует как раз Время-вещь; к примеру, «река» Гераклита. Или — уже у самого Бродского — «бомба времени»:
«А time bomb, which splinters even one’s memory. The building still stands, but the place is wiped out clean, and new tenants, no, troops, move in to occupy it»[689].
Ориентированный на язык, а не на сообщение, ТБ находит в себе самом разрешение этой оппозиции — он строится одновременно и линеарно, по горизонтальной временной оси, и вертикально, вне-временно[690]. Почти обязательные для Бродского переносы (enjambements), так же как и словосокращения и «метаслова» и буквоописания («Как ты жил в эти годы?» — «Как буква „г“ в „ого“» — «Темза в Челси», 1974 [II; 351]) или «О, неизбежность „ы“ в правописаньи „жизни“!» — «Декабрь во Флоренции», 1976 [II; 385]), педалируют, акцентируют именно это явление. Но такая обращенность на язык одновременно проявляется и в самоотчуждении от него, с чем связана «анонимность» автора: язык творит как бы сам по себе.
Разрешением и — одновременно — новым возникновением антиномий оказывается РТ. Вечность (вневременность) и время, эстетизированное (знаковое) и реальное (материальное), синтезированы в культурной мифологеме Рима вечный город, достояние истории, механизм тотального означивания реальности — превращающий предметы в символы и предполагающий за пределами установленных им границ только пустоту.
Инвариантом знаковой «тотальности» и «римской» тоталитарности выступают у Бродского своеобразно переосмысленные философемы Платона[691].
Идеи Платона реализуются в материальном мире в облике тоталитарного Государства. Его современный «абстрактный» вариант дан в стихотворении Бродского «Развивая Платона», но этатистская утопия философа образует и подтекст стихотворений, входящих в РТ[692].
Мифологема Рима как культурного пространства отражена у Бродского в образе «державы дикой», советской Империи, и модифицирована. Связующим звеном при этом служит идея «третьего Рима». Снятием антиномии «вечности» и «времени» во многих стихотворениях РТ является мрамор, статуя[693], с ассоциативным рядом мрамор — твердость — белизна — холод и снег. Но Рим, представленный в этих стихотворениях РТ, — отнюдь не «псевдоним» советской «Империи», хотя она и является его основным денотатом:
Это — конец вещей, это — в конце пути
зеркало, чтоб войти.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут.
Но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.
Эта «эгоцентричность» «Римского» пространства, несомненно, соотносится и с «первым Римом». Позиция лирического героя (или персонажа, к нему приближенного) — его оппозиция по отношению к имперской Власти, выраженная в традиционных античных образах, — чужеземец (грек) в «Post aetatem nostram» (1970); укрывшийся «от Цезаря подальше» философ в «Письмах римскому другу» (1972); изгнанник Овидий в «Ех ponto» («Последнем письме Овидия в Рим», 1965). Более сложный случай — «Я, писатель, повидавший свет» в стихотворении «Anno Domini» (1968). В нем положение героя почти зеркально (но с противоположным знаком) тому, в котором оказывается римский Наместник. При этом история героя одновременно соотносима и с евангельским рассказом.
Отечество… чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,
нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатье — сплетней,
фигурой умолчанья об отце…
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце
горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит, и вижу — Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.
Если евангельский код обнаруживает призрачность (Иосиф-автор — не Иосиф-плотник), то римский сохраняет свои права.
РТ значим как символизированное и сублимированное описание реальных, сегодняшних событий и ситуаций. Римская мифологема ‘в свернутом виде’ становится знаком по преимуществу; ядром порождения новых текстов; она описывает не только политические и социальные реалии, но и универсум поэта. Зеркальность ‘римского’ и ‘третьеримского’ пространства соотносится с принципом зеркала, конструирующим началом поэтики Бродского. Некоторые примеры: достаточно ограниченный словарь ключевых лексем и тропов[694], часто используется инвертирование, с обратным знаком; образуются почти зеркальные пары[695]; самоотражение можно видеть и в склонности к автоцитации. Стихотворения Бродского в высокой степени самореферентны и в то же время ‘универсальны’; в пределе они заключают в себе весь мир, а также свое собственное метаописание.
По своей поэтической установке Бродский близок к акмеистам с их установкой на «мировой поэтический текст»[696]. Но если Ахматова или Мандельштам «размыкали» свое творчество в мировую литературу, то Бродский как бы «заключает» ее всю в собственные произведения. В первом случае поэт — участник диалога с традицией, во втором — наследник и хранитель культурных ценностей. Сближение поэтики Бродского с акмеизмом[697], по-видимому, не опровергает ее очевидной близости (в других отношениях) к поэтике Б. Пастернака, М. Цветаевой или даже Велимира Хлебникова (так, В. П. Полухина продемонстрировала это на примере структуры тропов у Бродского)[698]. Можно добавить, что образным словарем и переносами поэт во многом обязан М. Цветаевой, и интенции (трагическое одиночество, богоборчество и т. д.) его творчества во многом напоминают цветаевские. Несомненно также, что ассоциативные ходы Бродского (особенно в стихотворениях из книги «Урания»,) роднят его с Пастернаком. Это, однако, не опровергает «акмеистичности» Бродского: как хранитель мирового поэтического текста, он принимает не только акмеистическую традицию, но и многие иные[699].
Скульптурный бюст, статуя, камея — предметы, заполняющие пространство РТ у Бродского и персонифицирующие снятую антиномию времени и вечности, — связывают РТ поэта с пушкинским «скульптурным мифом»[700]. Близость поэзии Бродского и Пушкина не случайна. Достаточно вспомнить значение пушкинской традиции для акмеистов — Ахматовой и Мандельштама. Пушкинское творчество в русской культуре осмыслялось как совершенный и, в известном смысле, завершенный текст. Но, кроме того, произведения Пушкина воспринимаются едва ли не как единственный и неповторимый случай взаимопроникновения, слияния текста и внетекстовой реальности (в частности — биографии поэта).
Мотив статуи в творчестве Пушкина выявляет и разрешает ключевую семиотическую оппозицию[701] и основную антиномию художественного мира поэта — движение (подчиненное времени) / статичность (вечное)[702]: «<…> в пушкинской символике покой, неподвижность есть яркий контрастный мотив, который предстает либо в виде вынужденной неподвижности <…>, либо в виде свободного покоя как воображаемого, сверхчеловеческого и даже сверхъестественного состояния. <…> Для мифотворящего гения Пушкина статуя, которая всегда предполагает активность и движение и в то же время сама неподвижна, являет собой чистое воплощение сверхъестественного, свободного, творческого покоя <…>»[703].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Книги похожие на "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Ранчин - «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского"
Отзывы читателей о книге "«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.