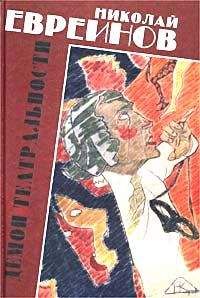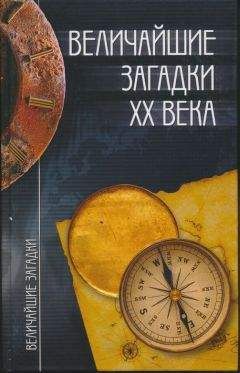Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вокруг «Серебряного века»"
Описание и краткое содержание "Вокруг «Серебряного века»" читать бесплатно онлайн.
В новую книгу известного литературоведа Н. А. Богомолова, автора многочисленных исследований по истории отечественной словесности, вошли работы разных лет. Книга состоит из трех разделов. В первом рассмотрены некоторые общие проблемы изучения русской литературы конца XIX — начала XX веков, в него также включены воспоминания о М. Л. Гаспарове и В. Н. Топорове и статья о научном творчестве З. Г. Минц. Во втором, центральном разделе публикуются материалы по истории русского символизма и статьи, посвященные его деятелям, как чрезвычайно известным (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб), так и остающимся в тени (Ю. К. Балтрушайтис, М. Н. Семенов, круг издательства «Гриф»). В третьем собраны работы о постсимволизме и авангарде с проекциями на историческую действительность 1950–1960-х годов.
После доклада присутствовавшие поэты прочитали неизданные стихотворения. Н. С. Гумилев произнес циклическое произведение „Блудный Сын“, вызвавшее оживленные прения о пределах той свободы, с которой поэт может обрабатывать традиционные темы. Вячеслав Иванов прочитал стихотворение в форме газэлы, на абиссинские мотивы, связанное с рассказами Н. С. Гумилева о вышеупомянутом путешествии; оно послужило поводом к обмену мыслей о пределах применения газэлы как национальной формы. Затем читали свои стихи М. А. Зенкевич и Ю. Н. Верховский»[838].
Как правило, этот отчет привлекал к себе внимание исследователей как источник сведений о том расхождении между Гумилевым и Вяч. Ивановым, которое потом Ахматова полагала одной из причин «бунта» первого, а следовательно — и возникновения акмеизма. Мы же хотели бы обратить внимание на первую из процитированных частей хроникального известия, где речь идет о переводах Гумилева из абиссинской поэзии. Нет сомнений, что речь тут идет о четырех «Абиссинских песнях», напечатанных в том же 1911 году в «Антологии» книгоиздательства «Мусагет», а в 1912 году вошедших в сборник Гумилева «Чужое небо». Вряд ли Крученых так пристально следил за периодикой, чтобы обратить внимание на предупреждение автора, сообщившего в рецензии на «Антологию»: «Четыре абиссинские песни автора этой рецензии написаны независимо от настоящей поэзии абиссинцев»[839]. Для него они должны были восприниматься именно как переводы народной поэзии, одушевляющей поэзию литературную. Это было тем вероятнее, что в большинстве рецензий на «Чужое небо» «Абиссинские песни» так или иначе были отмечены, а Б. Садовской, которого футуристы не могли воспринимать иначе как беспомощного пассеиста, неодобрительно говорил: «Имена и названия, вроде Харрар, Аксум, Тигрэ, Габеш, Сенаар, Левант, Смирна пестрят на страницах „Чужого неба“»[840].
На первый взгляд «заумная» строка в стихотворении Крученых с гумилевскими «песнями» не связана. Однако она вполне может проецироваться на другое стихотворение из той же книги — «Гиппопотам» Теофиля Готье и конкретнее — на четверостишие:
Свистит боа, скользя над кручей,
Тигр угрожающе рычит,
И буйвол фыркает могучий,
А он пасется или спит[841].
«Фыркает» + «он», то есть сам гиппопотам, полностью покрывают звуковой состав «фрот фрон ыт». При этом вряд ли стоит забывать, что сочетание «фр» является ключевым для метаописательного по отношению ко всему пятистишию названию «Африка».
Однако внимательные читатели Гумилева (или Гумилева — Готье) могут резонно вроде бы возразить: ведь в стихотворении мы читаем: «Гиппопотам с огромным брюхом / Живет в яванских тростниках», и, стало быть, с Африкой его никак невозможно ассоциировать.
Не говоря уж о том, что гиппопотам равно возможен и в Индонезии, и в Африке, напомним, что поэтика Гумилева нередко использовала возможности намеренной или случайной ошибки. Так и в стихотворении Гумилева — Готье мы находим ассагаи («Ни стрел, ни острых ассагаев») и сипаев («И пули меткие сипаев»), да и самому гиппопотаму приписан панцирь, который есть у носорога, а отнюдь не у описываемого животного, то есть гумилевский гиппопотам становится одновременно и индонезийским, и индийским, и африканским, да и не гиппопотамом только. Тогда мы вполне можем допустить и у Крученых «черный язык» как обозначение всех «диких племен», независимо от того, где они существуют: в Африке или Австралии, в Южной Америке или Полинезии. Это, в свою очередь, выводит нас на проблему примитивизма в русском и не только русском авангарде[842].
Таким образом, с нашей точки зрения, стихотворение (и, несколько шире, стихотворный триптих) А. Крученых существует не само по себе, а теснейшим образом соприкасается с другими программными произведениями русского искусства, создававшимися и появлявшимися в свет в 1911–1912 годах. Тем самым становится более понятным, почему «Утро акмеизма» О. Мандельштама открывается полемикой с футуризмом и «словом как таковым»: не только рассмотренная А. Г. Мецем полемика с футуристическими выступлениями и манифестами[843] определяет полемический пафос, но и сама поэтическая практика. Объясняется этим, как кажется, и настроение письма Нарбута к М. А. Зенкевичу, написанного 17 декабря 1913 года: «О сближении с кубофутуристами. <…> Я, конечно, не имею ничего против их литературной платформы. Даже больше: во многом с нею согласен. <…> Разница между ими и нами должна быть только в неабсурдности. Нельзя же стихи писать в виде больших и малых букв и — только! Следовательно, почва для сближения между ими и нами (тобой и мной), безусловно, есть. Завяжи с ними небольшую дружбу и — переговори с ними, как следует. Я — согласен и на слияние принципиальное. Мы — так сказать — будем у них центром»[844]. И далее — еще более выразительно: «Относительно издания сборника — тоже вполне согласен: да, нужны и твой и мой. Можно и вместе (хорошо бы пристегнуть стихи какого-либо примкнувшего к нам кубиста). Мандель мне не особенно улыбается для этой именно затеи. Лучше Маяковский или Крученых, или еще кто-либо, чем тонкий (а Мандель, в сущности, такой) эстет»[845].
В свою очередь, как хотя бы частичное подтверждение нашего предположения о пристальном интересе Крученых к поэзии Нарбута, отметим, что в позднем стихотворении (или небольшой поэме) «Слово о подвигах Гоголя» Крученых совершенно очевидно ориентируется не только на творчество Гоголя (что отлично раскрыто комментарием Н. Гурьяновой[846]), но и на поэзию Нарбута. Как представляется, наиболее очевидно это высказалось в строках Крученых:
Так пел перед казаками и казачками,
ставшими в круг,
старец-бандурист
на хуторе
близь города Глухова[847].
Конечно, как справедливо отмечено комментатором, тут переносится в стихи фрагмент из последней главы «Страшной мести»: «В городе Глухове собрался народ возле старца бандуриста, и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре». Однако немаловажно сказать, что у Гоголя речь идет о самом городе, тогда как у Крученых — о хуторе. Именно там, на хуторе Нарбутовка близ Глухова, Нарбут родился и жил не только в детстве, но и в годы Первой мировой войны. На другом хуторе — Хохловка — под Глуховом он пережил налет банды в новогоднюю ночь 1917/18 года и был искалечен. С Глуховом и его окрестностями связаны многие стихи Нарбута, которые без труда могут быть спроецированы на интересующее нас стихотворение Крученых. Особенно существенны, как кажется, параллели не только со стихами из «Аллилуии», но и со стихотворением «Левада» (или «Левады»), долженствовавшим открывать невышедший сборник «Вий».
Впрочем, тут мы скорее склонны предположить вторичный интерес Крученых к погибшему Нарбуту: как хорошо известно, близко друживший с Крученых Н. И. Харджиев был поклонником творчества Нарбута и именно по его инспирации в 1940 году Ахматова написала стихотворение «Про стихи Нарбута» (в советской подцензурной печати именовалось «Про стихи»).
Вместе с тем имеет смысл сказать, что не только проекция на контекст может дать нам ключи к истолкованию стихотворения Крученых, но и обращение к его более поздним теориям.
Сравнительно недавно появились публикация и статья, вводящие в научный оборот теорию «мгновенного творчества», пропагандировавшуюся Крученых в 1915–1916 годах. Несомненно, у нас нет доказательств того, что она может быть применима к «Дыр бул щыл», написанному ранее. Но все-таки не может не привлечь внимания, что термины и примеры, которыми в это время оперирует Крученых, разительно напоминают слова и строки «Дыр бул щыл» и других стихотворений триптиха.
Так, в редакции «Декларации слова как такового», приготовленной в 1917 году, Крученых вводит пункт, отсутствовавший как в предшествовавшей редакции (1913), так и в последующей (1921): «В заумной поэзии достигается высшая и окончательная всемирность и экономия — (эко-худ) пример: хо — бо — ро»[848]. Но в чуть более ранних письмах сочетанию «эко-худ» соответствует иное — «эко-эз», что, обозначая на языке Крученых «экономия — поэзия», «самая всеобщая и краткая (заумная) поэзия»[849], разительно напоминает о том, что именно слогом «эз» заканчивалось «Дыр бул щыл».
Тем самым мы получаем возможность попробовать свои силы в том, что с такой наивностью проделал Бурлюк, расшифровывая — напомним — первую строку в собственной интерпретации как «дырой будет уродное лицо счастливых олухов». Как кажется, с точки зрения «эко-эз» (повторимся, мы не можем быть уверены, действительно ли Крученых уже в конце 1912 года мог применить эти принципы к своей собственной поэзии) последняя строка занимающего нас стихотворения может быть декодирована как метаопределение «поэзия <о> русской литературе». Еще более заманчива (хотя и еще менее внятно доказуема) гипотеза о том, что если читать согласные последней строки не как отдельные звуки, а как названия букв кириллической азбуки, то у нас получится замечательное сообщение: «рцы люди поэзия», в свою очередь могущее расшифровываться несколькими способами для приведения к окончательно «разумной» форме. А «хо — бо — ро» предстает вариантом «ха ра бау» из третьей части «триптиха»[850]. Тем самым стихотворение Крученых получает возможность быть воспринятым как порождение языка, стремящегося к компактной одномоментности и тем самым концентрирующего в себе все преимущественные свойства языка «разумного»[851].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вокруг «Серебряного века»"
Книги похожие на "Вокруг «Серебряного века»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»"
Отзывы читателей о книге "Вокруг «Серебряного века»", комментарии и мнения людей о произведении.