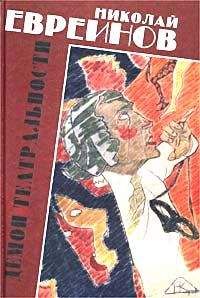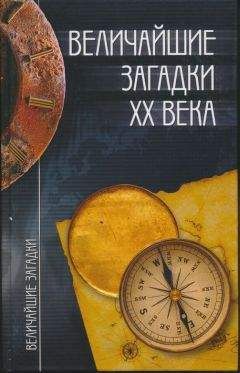Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вокруг «Серебряного века»"
Описание и краткое содержание "Вокруг «Серебряного века»" читать бесплатно онлайн.
В новую книгу известного литературоведа Н. А. Богомолова, автора многочисленных исследований по истории отечественной словесности, вошли работы разных лет. Книга состоит из трех разделов. В первом рассмотрены некоторые общие проблемы изучения русской литературы конца XIX — начала XX веков, в него также включены воспоминания о М. Л. Гаспарове и В. Н. Топорове и статья о научном творчестве З. Г. Минц. Во втором, центральном разделе публикуются материалы по истории русского символизма и статьи, посвященные его деятелям, как чрезвычайно известным (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб), так и остающимся в тени (Ю. К. Балтрушайтис, М. Н. Семенов, круг издательства «Гриф»). В третьем собраны работы о постсимволизме и авангарде с проекциями на историческую действительность 1950–1960-х годов.
В отличие от него Ауслендер настаивает на отказе от крайностей любого рода. Попробуем с этой точки зрения рассмотреть конец первой части, когда Гавриилов после обморока остается на квартире Агатовой, а та после свидания со своим любовником Полуярковым возвращается домой и обнаруживает, что Миша еще не уехал. Ее слова при встрече обладают вполне определенным стилевым характером: «Спаси меня, не покидай! <…> Ты избавитель мой светлый, ты спасешь меня! <…> позволь быть твоей рабой, только смотреть на тебя, только изредка целовать твои одежды…» — и т. д. (С. 68). На это она получает в ответ: «Встань. Успокойся. Странно у вас все в Москве, и нет благой легкости и радости, которой я хочу, а все ужасы, трагедии», — и дальше, уже в авторской речи нагнетаются слова одного стилевого ряда: ласковый и утешающий голос, ласковый и спокойный разговор, спокойный, нежный и властный Гавриилов, веселый и нужный обед, еще один разговор — дружественный и веселый, ласковый ответ Гавриилова (С. 69). И все эти рассчитанные прилагательные и наречия (которые мы перевели в прилагательные для удобства восприятия), повторяющиеся так настойчиво на пространстве всего лишь одной страницы, предназначены для обозначения того круга стилистических средств, который вырисовывается как идеальный, который не могут и не должны поколебать прежние слова Агатовой, произносимые на вокзале через несколько часов: «Ты уведешь меня к радостному спасению. <…> У тебя гордое и светлое лицо сейчас, как у жениха. <…> Жених мой прекрасный. Симон[869], вождь мой!» (С. 70–71). Гавриилов отвечает на эти слова бессловесно, но авторская речь опять гармонически уравновешена: «Прощаясь, быстрым поцелуем поцеловал Гавриилов Юлию Михайловну и вскочил на площадку, помахивая из окна белой розой» (С. 71).
И в другой ситуации, в публичном доме, когда Гавриилов впервые сталкивается с «непристойными выдумками», он слышит повествование о них «как о чем-то простом» (С. 127), а в момент обморока Юнонов, держащий его голову, «ласково и нежно спросил», «нежно гладил его и говорил что-то ласковое и успокоительное» (С. 129), то есть снова появляются гармонизирующие и смыслом и постоянным повторением слова и обороты речи.
Ауслендер в этом романе словно воплощает в жизнь заветы статьи Кузмина «О прекрасной ясности», которых тот сам вовсе не думает придерживаться (напомним, что он заканчивал писать «Нежный Иосиф» совсем незадолго до того, как была написана статья). И его стилевое задание весьма далеко от стилизации, оно строится без оглядки на уже существующие образцы русской прозы, а скорее наоборот — в чем-то предвещает поэтику «Серапионовых братьев», особенно Каверина, Лунца и раннего (и лучшего!) Федина. Видимо, не только общими омскими воспоминаниями объяснялось и его внимание к салону Л. В. Кирьяковой, где можно было встретиться с М. Булгаковым и другими писателями, составлявшими круг его общения[870]. Впрочем, говорить об этом следует уже в другом месте и гораздо более подробно.
Затерянная книга, затерянное стихотворение[*]
В свое время, потратив много времени и сил, автор данной заметки составил библиографический указатель[872], включивший росписи 445 изданий, ранее по тем или иным причинам не попавших в указатель предшествующий, составленный О. Д. Голубевой и Н. П. Рогожиным[873]. Слово «Материалы» в заглавии было не случайно: составитель отдавал себе отчет, что его труд заведомо не доведен до конца. Так, в силу различных причин, не была выполнена даже очевидная работа: опубликованный указатель Голубевой и Рогожина не был сверен с его машинописью, хранящейся в ЦСБ РГБ. Существо вата и обширная дезидерата, в которой на момент завершения работы над «Материалами…» оставалось около 120 наименований.
За прошедшие со дня выхода указателя в свет 15 лет на него появилось, насколько мы знаем, всего два отклика. В одном М. Д. Эльзон предъявил ряд библиографических претензий, не сделав никаких добавлений[874]. В другом известный немецкий исследователь русской литературы М. Шруба, наоборот, не стал продолжать линию, начатую рецензией Эльзона (исправив лишь несколько недочетов), но зато представил дополнительный список из 261 названия альманахов и сборников, не представленных ни в четырехтомнике, ни в «Материалах…»[875]. Составленный по различным источникам, но не проверенный de visu, этот список также не лишен ряда недостатков. Но в общем казалось, что проблема библиографической фиксации репертуара русских литературно-художественных альманахов и неавторских сборников более или менее решена. Однако такое впечатление мнимо, прежде всего потому, что состояние российских библиотек катастрофично и новые разыскания в них если и возможны, то с трудом. Мало того, пропадают даже книги, существовавшие в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Недавно для работы нам понадобился второй выпуск екатеринодарского альманаха «Накануне», в те годы хранившийся вместе с первым в спецхране Государственной публичной исторической библиотеки. Увы, первый на месте (теперь в отделе ОИК за семью замками), а второй растворился. Да то сказать, в первом самый знаменитый автор — М. Марич, а во втором — статья и два стихотворения Волошина, а кроме него — небезызвестные С. Фонвизин, В. Эльснер, Бор. Лазаревский, Ал. Дроздов.
Однако у нас речь пойдет не о таких сборниках. Время от времени в различных изданиях появляются указания на сборники, пропущенные всеми обращавшимися к этой теме библиографами. Недавно нам представилась возможность купить одну из таких книг, объявленную в интернет-каталоге московского антикварного салона «Арт-Антик». Это брошюра формата 26x16 см, объемом в 30 страниц. Титульный лист буквально повторяет обложку: название сборника «Тропа», потом перечисление авторов книги по алфавиту и дата — 1922. За титульным листом находится своего рода посвятительная страница (она не нумерована, но, судя по пагинации, должна носить номер 1). На ней два эпиграфа — «Герой не тот, кто велик мыслью; герой тот, кто велик сердцем» (А. <так!> Бетховен) и двустишие:
Он состраданьем к преступленью
Наполнил жизни бытие.
Вслед за этим идет набранное самым крупным кеглем посвящение: «Памяти незабвенного гуманиста д-ра Гааза посвящен этот сборник». Еще ниже — «Весь сбор поступает в фонд санитарного благоустройства мест заключения», и совсем уж внизу, самым мелким шрифтом: «Издатель — Комиссия по проведению „Недели санитарного благоустройства мест заключения в память д-ра Гааза (1–8 мая 1922 г.)“. г. Харьков». На последней странице обложки цена — 250 ООО р., цензурное разрешение (Р.В.Ц.) и указание на место печати: «г. Харьков. Типография Губ’юста при Допре № I»[876].
Таким образом, сборник вписывается в ряд благотворительных изданий, которых было немало, и в предреволюционное время, да и в двадцатые годы они появлялись[877]. И бедность оформления словно сама собой подразумевала, что участвовали в сборнике исключительно безвестные авторы, добрые намерения которых не совпадали с размерами таланта.
На самом деле, сборник был вполне незаурядный. Среди его участников — не вполне забытые харьковские поэты Е. Новская, Юдифь Райтлер, Измаил Уразов, харьковский же литературовед, еще не успевший стать знаменитым А. И. Белецкий, а также и авторы с более широкой, чем местная, известностью: Вадим Баян, Владимир Нарбут и Илья Эренбург.
Сначала о харьковчанах. Елизавета Андреевна Новская (1893–1959) издала в 1918 году книгу стихов «Звезда — земля», а в 1923-м — «Ордалии» (фрагменты из второй книги и напечатаны в интересующем нас сборнике). В архиве М. А. Волошина сохранилось 72 ее письма к нему[878]. Юдифь Наумовну Райтлер, по всей видимости, можно отождествить с фигурирующей в «Ленинградском мартирологе» женщиной — «1894 г. р., уроженка г. Брест-Литовск, еврейка, беспартийная, экономист завода „Ильич“, проживала: г. Ленинград, ул. Рентгена, д. 2а, кв. 10. Арестована 21 сентября 1937 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 10 декабря 1937 г. приговорена по ст. 58–10 к высшей мере наказания. Расстреляна в г. Ленинград 14 декабря 1937 г.». В 1922 году, когда вышел занимающий нас сборник, Райтлер издала единственную свою книгу стихов «Вериги»[879]. Измаил Алиевич (или Алеевич — в разных источниках отчество звучит по-разному) Уразов (1896–1965), помимо двух книг стихов — «Цветные стекла» (Пг., 1917) и «Голубель» (М., 1918), был совместно с М. Коссовским редактором журнала «Театр, литература, музыка, балет, графика, живопись, кино» (Харьков, 1922), а также автором многообразной литературной продукции: предисловия к сборнику «Английские писатели» (Харьков, 1925), многочисленных брошюр об артистах немого кино (Грета Гарбо, Гарри Лидтке, Аста Нильсен, Осси Освальда, Женни Портен) и циркачах (Дуров, Виталий Лазаренко, «факиры»), выдерживавших иногда и по нескольку изданий, участвовал в создании фильма Дзиги Вертова «Шестая часть мира» (1926). Работал в журнале «СССР на стройке», после войны — в «Журнале мод». Одобрительную оценку К. Чуковского заслужили две его брошюры в серии «Библиотека „Огонька“» под названием «Почему мы так говорим» (М., 1956, 1962). Для изучения истории альманахов он также заслуживает внимания: в указателе Тарасенкова (а потом и Турчинского) числится никогда не виданный нами, несмотря на розыски, сборник Уразова, А. Прокопенко и М. Эйзлера «Парус у залива» (Харьков, 1917)[880]. Во время работы над статьей в генеральном электронном каталоге РНБ нам попалась другая книжка тех же трех авторов — «Поэты на площади», также изданная в Харькове в 1917 году и даже того же самого объема — 15 страниц. Вряд ли такое совпадение может быть случайным: вероятно, среди многих ошибок указателя Тарасенкова следует числить и эту[881]. Некоторую известность в 1920–1930-е годы приобрел автор «эскиза» «Выше жизни» Александр Самойлович Золин, издававший в Харькове, а потом в Москве прозу и пьесы. Справка о Белецком, кажется, будет излишней, следует только добавить, что стихотворения «Миф» и «Сатана», подписанные А. (то есть Анфим) Ижев, также принадлежат ему. По справедливому предположению A. Л. Соболева, Владимир Жилкин, чья книга «Стихи» объемом в 16 страниц вышла в Харькове то ли в 1921-м, то ли в 1922 году — данные обложки и титульного листа разнятся, — скорее всего, отождествляется с архангелогородским поэтом Владимиром Ивановичем Жилкиным (1896–1972), автором книг «Избранные стихи» (Архангельск, 1959) и «Мечтая, радуясь, грустя…» (Архангельск, 1971).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вокруг «Серебряного века»"
Книги похожие на "Вокруг «Серебряного века»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»"
Отзывы читателей о книге "Вокруг «Серебряного века»", комментарии и мнения людей о произведении.