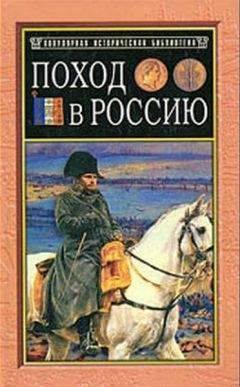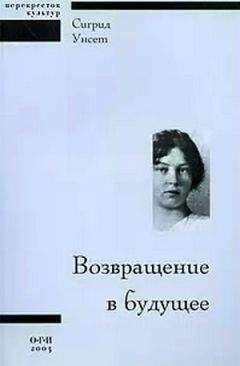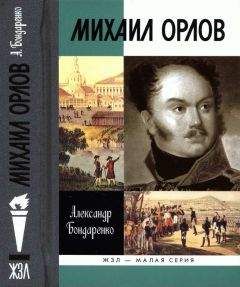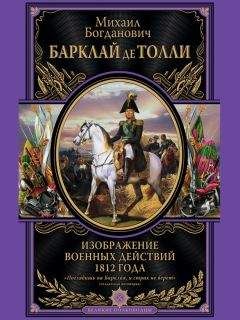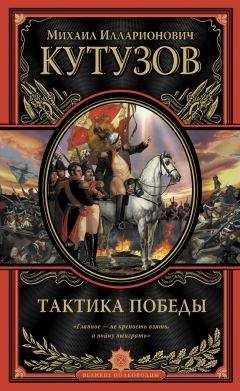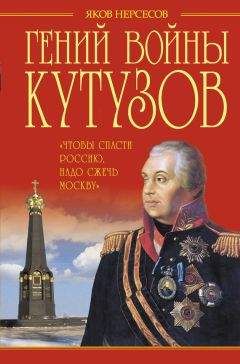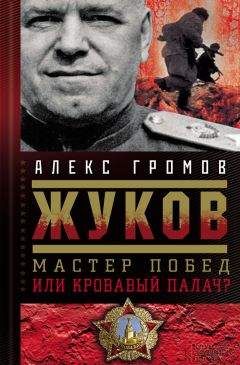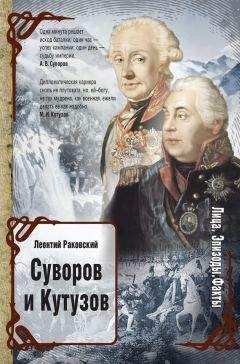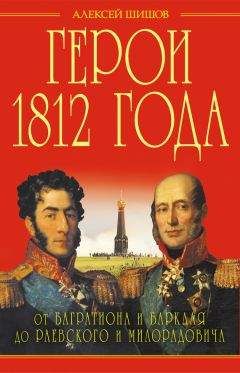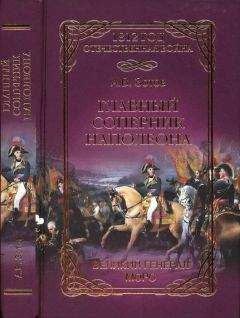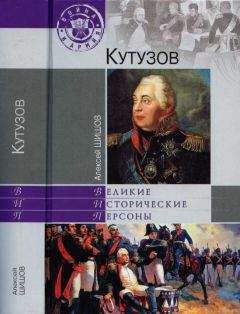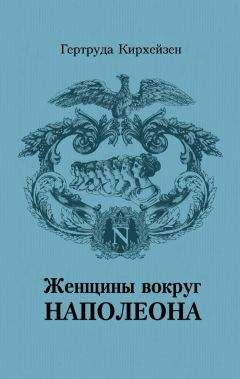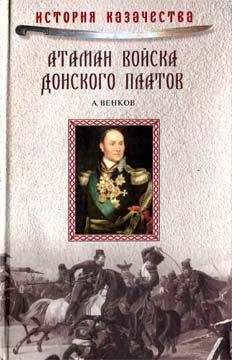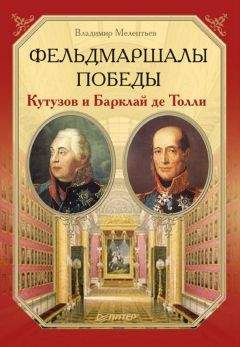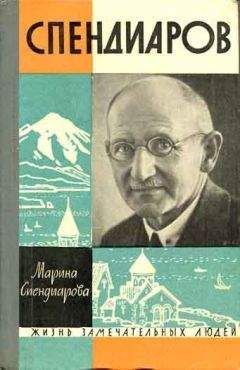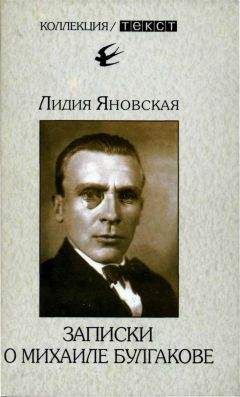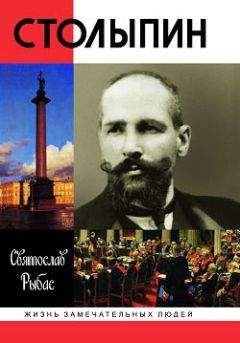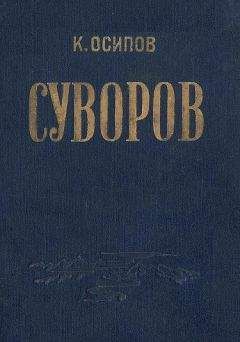Лидия Ивченко - Кутузов
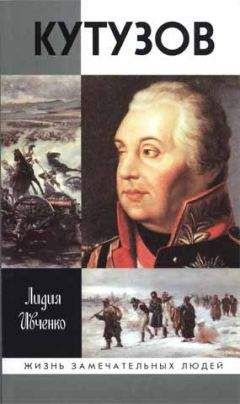
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Кутузов"
Описание и краткое содержание "Кутузов" читать бесплатно онлайн.
Эта книга — о великом русском полководце и дипломате Михаиле Илларионовиче Кутузове (1745–1813). Последний из плеяды «славных екатерининских орлов», герой Очакова, Измаила, Мачина, он выжил после серьезнейших ранений, чтобы в конце земного пути совершить главный свой подвиг: возглавив русскую армию, разгромить и изгнать иноплеменное воинство, вторгшееся в Россию под предводительством Наполеона в 1812 году.
Привлекая богатый документальный материал, автор биографии развенчивает многочисленные мифы о своем герое, созданные его недоброжелателями и поднятые на щит некоторыми современными исследователями, показывает Кутузова как человека и семьянина, повествует о непростых отношениях полководца с императором Александром I.
В советские годы перед исследователем не возникало сомнений, на чьей стороне безоговорочно должны быть симпатии — на стороне старой Европы или революционной Франции. Сегодня трудно признать, что ответственность за развязывание «Большой войны» в Европе лежит только на монархических державах. Россия и Великобритания были нейтральны до появления знаменитого декрета Конвента от 19 ноября 1792 года, в котором была обещана братская поддержка всем народам, которые «пожелают вернуть себе свободу». Революция во Франции, подобно пугачевщине в России, расколола мир, где так привычно существовало поколение Кутузова. По словам Ж. Тюлара, «зло, неосмотрительно выпущенное из ящика Пандоры, расправилось с потомственным дворянством, упразднило титулы, уничтожило феодальные привилегии, конфисковало поместья»11. Особенностью режима, установившегося во Франции, была его воинствующая агрессивность, усиливающаяся по мере осознания правительством экономического упадка и хаоса, в котором находилась страна после десяти лет «борьбы с тиранами». Директория первой заметила разверзшуюся бездну: коммерческий флот Франции более не существовал, его место заняли торговые суда Великобритании, США, Голландии. «Меркантильное могущество» Англии кололо глаза «свободным гражданам Франции», во главе которых встал человек, решившийся возглавить их борьбу с экономически более сильным государством, что и привело Европу к «десятилетию большой крови». Следовало ли России подключаться к «кошмару коалиций»? Были ли у нее причины для вступления в войну против французов 1805 года? Достаточно ли современному читателю объяснения, содержащегося в Записках А. П. Ермолова: «Спокойное России состояние было прервано участием в войне Австрии против французов. С 1799 года, знаменитого блистательными победами Суворова в Италии, уклонялась она от этих войн, бурным правительством Франции порожденных. Двинулись армии наши против нарушителей общего спокойствия»12. В последние 20 лет появились работы, где авторы называют в качестве главной причины борьбы между Россией и Францией личную обиду, нанесенную императором Наполеоном I императору Александру I…На рассвете 21 марта (7 марта по русскому стилю) 1804 года в Париже во рву Венсеннского замка был расстрелян Луи Антуан Анри де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский, родственник казненного короля Людовика XVI, внук принца Конде, начальствовавшего над эмигрантским корпусом. Первый консул получил известия о подготовке роялистами покушения на его жизнь. К этому добавились сведения о том, что к заговору причастен некий принц королевской крови, который должен был со дня на день прибыть во Францию. В трех верстах от французской границы проживал герцог Энгиенский, которого решено было арестовать. Перед первым консулом и его сообщниками возникло, по словам Е. В. Тарле, «два затруднения: во-первых, герцог жил не во Франции, а в Бадене; во-вторых, он решительно никак не был связан с открывавшимся заговором. Но первое препятствие для Наполеона существенным не было: он распоряжался уже тогда в западной и южной Германии, как у себя дома, а второе препятствие тоже значения не имело, так как он уже наперед решил судить герцога военным судом, который за доказательствами гнаться особенно не будет. <…> В ночь с 14 на 15 марта 1804 года отряд французской конной жандармерии вторгся на территорию Бадена, вошел в город Эттенгейм, окружил дом, арестовал герцога Энгиенского и увез его немедленно во Францию». Далее Е. В. Тарле иронизировал по поводу немцев: «Баденские министры были довольны, по-видимому, уже тем, что и их самих не увезли вместе с герцогом, и никто из баденских властей не подавал признаков жизни, пока происходила вся эта операция»13. Казнь королей, царей, принцев в советское время преступлением не считалась, поэтому академик Е. В. Тарле иронизировал и на эту тему: «Другие монархи <…> ограничивались негодованием вполголоса, в узком семейном кругу. Вообще храбрость их выступлений по этому поводу неминуемо должна была оказаться прямо пропорциональной расстоянию, отделявшему границы их государств от Наполеона. Вот почему наибольшую решительность должен был проявить именно русский император. Александр протестовал формально, особой нотой, против нарушения неприкосновенности баденской территории с точки зрения международного права (выделено мной. — Л. И.)»14. Ответ первого консула повергает в непонятный восторг уже не одно поколение отечественных авторов. Тема «Дом Романовых» была крайне непопулярна в советской историографии, поэтому неудивительно, что Е. В. Тарле в то время интересовала «классовая» подоплека этого инцидента. Времена изменились: теперь авторов волнует драматическое противостояние личностей — Александра и Наполеона. Так, известный петербургский историк О. В. Соколов пишет: «Но самый жесткий ответ, самые страшные слова для Александра раздались из Парижа. В ответ на ноту, представленную 12 мая поверенным в делах Петром Убри, Бонапарт взорвался. Своему министру иностранных дел он написал: „Объясните им хорошенько, что я не хочу войны, но я никого не боюсь. И если рождение империи должно стать таким же славным, как колыбель революции, его отметит новая победа над врагами Франции“». Но Александр ни в коей мере не посягал на «колыбель революции»! Официально России было заявлено: «Жалоба, которую она (Россия) предъявляет сегодня, заставляет спросить, если бы когда Англия замышляла убийство Павла I, удалось бы узнать, что заговорщики находятся в одном лье от границы, неужели не поспешили бы их арестовать?» Историк А. И. Михайловский-Данилевский констатировал: «…в ответ мы получили дерзости». Александр протестовал против нарушения границы государства, а Наполеон почему-то намекал на обстоятельства, при которых лишился жизни Павел I. Как ни прискорбны были эти обстоятельства, — они имели место в пределах России, ни в коей мере не задевая целостность границ других государств. Наполеону, при желании избежать войны с Россией, следовало хотя бы избрать для себя другую жертву, коль скоро она ему потребовалась, но он приказал арестовать именно герцога Энгиенского, проживавшего на территории маркграфства Баденского, то есть во владениях деда императрицы Елизаветы Алексеевны. Наполеон Бонапарт был великий провокатор, щеголявший вседозволенностью, оскорбление было умышленным: он направил в лицо Александру острие шпаги, чтобы посмотреть, как поведет себя соперник (а монархи «старого света» все были его соперниками). Примет ли царь перед лицом Европы столь очевидный вызов или же, обмякнув от «дерзостей», побредет в свой угол? Это был «вопрос чести», и Александр не мог сослаться ни на отдаленность пространства, ни на занятость делами внутри своей империи, потому что еще 10 октября 1801 года граф А. И. Морков от России и князь Ш. М. Талейран от Франции подписали совместную конвенцию, согласно которой Россия и Франция признали, что Бавария, Вюртемберг и Баден находятся под особым покровительством российского монарха. Наполеону же важно было вытеснить Россию с континента, получив право единолично распоряжаться германскими землями. Мог ли Александр I захлопнуть «окно в Европу», которое с таким трудом прорубали его предшественники на троне? Была ли самоизоляция спасением от бед, когда рушился «священный принцип европейского равновесия» и все государства постепенно втягивались в процесс перераспределения земель, затеянный первым консулом? «Не удивили меня ни странный тон Первого консула в разговорах с Вами, ни замашки министра Талейрана, — написал государь в рескрипте графу А. И. Моркову. — Первое есть следствие степени, на которую Бонапарт возведен будучи счастьем, не знает приличных форм, что же касается до министра внешних сношений, он следовал с Вами той черте поведения, которую страшные успехи оружия французского или добровольные, или принужденные угождения разных дворов ввели в обыкновение в кабинете Тюильрийском»15. Одним словом, ничего нового в ответе на свой протест наш император не обнаружил: «учтив как господин, дерзок как слуга».
С 1800 года, после побед в Италии и Германии над австрийскими войсками, две французские армии уже располагались за пределами Франции, с одной стороны, утверждая ее могущество на континенте, с другой — избавляя страну, все более привыкавшую жить за чужой счет, от расходов на их содержание. Наполеон действовал в Европе так, «как если бы кроме него в Европе никого не было. Захотел присоединить Пьемонт — и присоединил; захотел объявить себя королем Италии и короноваться в Милане — и короновался (весной 1805 года); захотел отдать целый ряд мелких германских земель своим „союзникам“, то есть вассалам (вроде Баварии), — и отдал. Германские князья, владельцы западнонемецких земель, после Люневильского мира 1801 года и полного отстранения Австрии видели свое спасение только в Наполеоне. Они гурьбой теснились в Париже во всех дворцах и министерских передних, уверяя в своей преданности, выпрашивая кусочки соседних территорий <…>». Академик Е. В. Тарле писал эти строки накануне Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, поэтому и вложил в них столько сарказма: тогда поведение Наполеона в отношении немцев вызывало у советских читателей одобрение. Мы не замечали очевидного факта: Германия, превратившись в империалистического хищника на рубеже XIX–XX веков, была обязана своим объединением Наполеону. Если бы его политика в германских землях была бы менее циничной, а унижение местных владетельных фамилий не столь жестоким, то Первая и Вторая мировые войны, в ходе которых немцы стремились утвердить превосходство своей нации, оказались бы, вероятно, менее бесчеловечными. В 1805 году, ошибочно полагая, что в скором времени Англия не найдет союзников на континенте, Наполеон преждевременно торжествовал победу: «Мой флот будет решать судьбы мира»16. Он велел своему посланнику в Лондоне объявить, что политика Франции по отношению к Англии была «всецело Амьенским трактатом, и ничем более, как Амьенским трактатом» (Амьенский мир был подписан между Францией и Англией в 1802 году. — Л. И.). На что британский министр иностранных дел в тон ему ответил, что «то положение дел на континенте, какое было при подписании Амьенского трактата, ничего более как то положение». Англия могла позволить себе «адекватный» ответ: в начале войны она имела «135 линейных кораблей и 133 фрегата; по окончании же войны у нее было 202 линейных корабля и 277 фрегатов. Франция начала войну с 80 линейными кораблями и 66 фрегатами, а окончила ее с 39 и 35 судами названных классов соответственно». Как бы ни напрягал силы первый консул, британцы, — как заметил лорд Гауксбери, — «могли смело позволить ему еще много лет работать и все еще желать морской войны»17. Когда же снова разразилась война между Францией и Англией, Наполеон занял Ганновер и свободные ганзейские города, чтобы препятствовать торговле с англичанами немецких курфюршеств, расположенных между Эльбой и Вислой, то есть у самых наших границ. Россия, которую вытесняли из Европы, естественно, была заинтересована в том, чтобы привлечь к войне Австрию и Пруссию, сформировав Третью коалицию, финансировать которую готова была Великобритания. Первый консул поначалу планировал высадить в Англии десант. Предполагалось, что, переправившись через Ла-Манш, его войска захватят Лондон без боя. Западный исследователь А. Мэхэн называл французский проект «необоснованным оптимизмом»: «Предполагалось, что флотилия будет состоять из трех тысяч кораблей. На поверку к 28 июля 1805 года их набралось две тысячи сто сорок. <…> „Разнообразие возможностей“ также оставляло желать лучшего: многого ли стоили копьевидные шаланды и канонерки? В ту пору открытых военных действий никакой другой флаг не был столь же безопасен от обид, как британский, так как ни один не был охраняем сильным военным флотом»18. 26 мая 1805 года в главном кафедральном соборе Милана состоялось второе коронование Наполеона. Через несколько дней, под нажимом Франции, сенат Генуэзской республики проголосовал за воссоединение с империей. Узнав об этом, русский царь воскликнул: «Это ненасытный человек, его амбициям нет предела; он — бич для всего человечества. Он хочет войны, и он ее получит. И чем скорее, тем лучше!»19 Далее, французский автор А. Кастело рассуждал: «Наполеон, коронованный король Италии, теперь вполне мог вызывать опасения у австрийского императора Франца, давнишнего хозяина внушительной части итальянского полуострова. Ведь теперь у Франции с его страной общая граница! Вена, если она не хотела, чтобы ее сожрали, должна была укреплять свою армию. Англия 11 апреля 1805 года подписала договор с Россией. Речь шла о возведении плотины, если не сказать прочного бастиона, чтобы сдерживать разлив французских притязаний».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Кутузов"
Книги похожие на "Кутузов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лидия Ивченко - Кутузов"
Отзывы читателей о книге "Кутузов", комментарии и мнения людей о произведении.